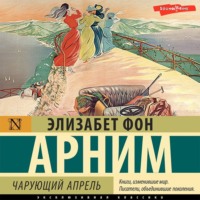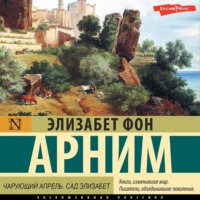Полная версия
Мистер Скеффингтон

Элизабет фон Арним
Мистер Скеффингтон
Серия «Эксклюзивная классика»
Elizabeth von Arnim
MR. SKEFFINGTON
Перевод с английского Ю. Фокиной
Серийное оформление А. Фереза, Е. Ферез
© Школа перевода В. Баканова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
* * *Глава 1
Казалось бы, Фанни давным-давно развелась с мистером Скеффингтоном, притом по причине совершенно неотразимой, так почему же мистер Скеффингтон вдруг стал занимать все ее мысли? Стоило Фанни закрыть глаза во время завтрака, мистер Скеффингтон возникал за столом, отделенный от Фанни блюдом для рыбы, а в последнее время мог явиться буквально за любым предметом, даже если Фанни вовсе и не закрывала глаз.
Особенно ее беспокоило отсутствие на столе рыбы как таковой. Рыбу подавали на завтрак лишь в тот недолгий период, когда мистер Скеффингтон распоряжался в доме на правах супруга, поскольку он был человек, весьма приверженный традициям, и ему нравилось, что на столе стоят те же кушанья, к каким он привык с юности. С исчезновением мистера Скеффингтона исчезло и блюдо для рыбы – серебряное, с электроподогревом; нет, мистер Скеффингтон не прихватил его, покидая дом: он был слишком подавлен, чтобы думать еще и о посуде, – просто завтрак Фанни с того самого дня, как ушел мистер Скеффингтон, состоял из половинки грейпфрута.
Разумеется, Фанни изрядно беспокоил тот факт, что она видит и мистера Скеффингтона, и блюдо, отлично зная, что ни первый, ни второе не присутствуют в столовой. Фанни даже чуть не обратилась к врачу; впрочем, она была не из тех, кто бегает к врачам по всякому поводу, и решила выждать время. Полагая себя женщиной в высшей степени здравомыслящей, Фанни рассудила так: приближается ее пятидесятый день рождения, и что же может быть естественнее для человека, который достиг вехи, подразумевающей избавление от иллюзий, чем возвращаться мыслями к некоей исходной точке, а при попадании в оную – что неизбежнее, чем напороться на мистера Скеффингтона? В свое время он играл в жизни Фанни главную роль. Он стал – это Фанни полностью признавала – краеугольным камнем всей ее карьеры. Благодаря распоряжениям, сделанным мистером Скеффингтоном (это были распоряжения человека сверх всякой меры богатого и сверх всякой меры любящего), Фанни сейчас так хорошо обеспечена. Благодаря супружеским изменам мистера Скеффингтона… Позвольте: разве это нормально – благодарить измены? Как бы то ни было, благодаря его изменам Фанни свободна.
Что за дивное ощущение – быть свободной. Двадцать два года восхитительной свободы получила Фанни, и насладилась каждой минутой; чуточку портили жизнь только финальные минуты ее романов, когда раздражает абсолютно все, да еще минуты последних месяцев, когда Фанни восстанавливалась после тяжелой болезни, не имела других занятий, кроме размышлений, и начала размышлять о мистере Скеффингтоне. Возможно, к мрачным сферам ее мысли перенаправила в высшей степени неприятная дата – пятидесятилетие, – что маячила перед нею, все приближаясь. Возможно, проблема состояла в противной телесной слабости – последствии дифтерии. Возможно, дело было в том, что прекрасные волосы Фанни выпадали теперь целыми пригоршнями. В любом случае перенаправление мыслей произошло, и человек, некогда бывший ее мужем, появился, словно только того и ждал, и, поначалу призрачный, с пугающей быстротой сделался четким и ярким, то есть прискорбно реальным.
Впрочем, видения имели место лишь в последние несколько месяцев, и скоро, совсем скоро пройдут, думала Фанни; ей просто надо окрепнуть. До болезни ведь жизнь ее была совсем безоблачной! Исполненная сияния, она припасла для Фанни целый ящик восхитительных сюрпризов, занятных персонажей – таких, к примеру, как будущие любовники (в определенный период времени словно бы весь мир жаждал благосклонности Фанни), – а все потому, что мистер Скеффингтон раз за разом являл неспособность устоять перед молоденькими машинисточками.
Как негодовала Фанни по поводу этих машинисточек, пока ее не осенило: на самом деле они не что иное, как врата свободы. Когда она увидела наконец-то машинисточек в их истинном свете, щелкнули одновременно семь замков, и врата распахнулись, и Фанни бросила негодовать, и возликовала (очень сомневаясь, что именно ликование будет в данной ситуации уместно). Определенно ей не следовало ликовать, но поистине трудно было не наслаждаться этим новым этапом бытия – без мистера Скеффингтона. Никогда, ни в какой период замужняя жизнь не радовала Фанни. Она признавала данный факт с большим сожалением. Ко всему прочему, мистер Скеффингтон был еврей. Фанни, лишенная предрассудков, закрыла бы глаза на это обстоятельство, но, увы, мистер Скеффингтон еще и выглядел как еврей, и как еврей держался, а ведь ни в том, ни в другом не было ни малейшей нужды. Многие знакомые Фанни тоже сочетались браком с евреями, но ни один из этих евреев не производил столь неотразимого впечатления, что он еврей, какое производил Джоб (мистера Скеффингтона звали Джобом, а это имя у всех и каждого ассоциируется исключительно с несчастливой судьбой)[1]. Но тут уж мистер Скеффингтон ничего поделать не мог, и потом, он был очень, очень добр. И Фанни, девушка правильного воспитания, убежденная, что следует держать клятву верности и отвечать добром на добро, тоже была очень, очень добра. Сердцу, однако, не прикажешь. Скоро Фанни обнаружила, что брак с человеком, взращенным в иной среде, изобилует камешками преткновения; притом ей пришлось перейти в другую веру, и это было весьма досадно, несмотря на изначальную нерелигиозность Фанни. Вот почему, когда мистер Скеффингтон дал ей целый ряд однотипных поводов для избавления от своей особы без потерь для чести, Фанни, сначала разгневавшись, в итоге осталась довольна.
* * *Она отлично знала, что ее реакция на измены мистера Скеффингтона совершенно неадекватна, но ничего не могла с собой поделать. Ее гневу следовало нарастать, как и ощущению, что она несчастна, однако все шло по-другому. Вынужденная простить мистеру Скеффингтону первую машинисточку (столь глубоки были его раскаяние и стыд), известие о второй машинисточке Фанни приняла куда спокойнее, хотя, конечно, гордость ее была задета. Зато, узнав о третьей, она осталась почти невозмутима. Четвертая всего-навсего заставила ее задуматься, какой конкретно своей чертой мистер Скеффингтон берет молоденьких женщин (наверное, деньгами, сама себе ответила Фанни). К пятой машинисточке она явилась лично и спросила ее в лоб (девица со страху вся скукожилась), что она находит в мистере Скеффингтоне. Обнаружив наличие шестой, купила себе несколько шляпок, ну а после седьмой ушла. Ушла насовсем. Ушла и не виделась с мистером Скеффингтоном до той самой минуты, когда они оба оказались в зале суда на бракоразводном процессе. С тех пор они не встречались; лишь один-единственный раз взгляд Фанни упал на мистера Скеффингтона. Это было вскоре после ее освобождения. Она ехала в своем автомобиле – в его автомобиле, если смотреть на вещи беспристрастно, – и застряла в пробке на Пэлл-Мэлл, а мистер Скеффингтон направлялся к своему клубу, – так они и пересеклись. Прелестная Фанни положительно светилась за стеклом, в темном нутре автомобиля; вожделенная мечта, создание, привилегии поклоняться которому добиваются все, а заслуживают единицы. Невероятная шляпка образца начала лета 1914 года прикрывала пышнейшие мягчайшие локоны, которых мистер Скеффингтон, бывало, касался с благоговением; безразличие Фанни потрясло его и своей абсолютностью, и скорым сроком возникновения. Фанни не потрудилась даже повернуть к нему голову. «Разве это не жестокость с ее стороны? Разве не чудовищная жестокость?» – спросил себя мистер Скеффингтон, возмутившись всем своим существом. Разве он не боготворил эту женщину, разве не для нее жил, разве не о ней одной были его помыслы (что, правда, не мешало ему время от времени думать еще и о какой-нибудь миленькой маленькой машинисточке)? Но много ли, в долгосрочной перспективе, значат для мужчины конторские служащие, хотя бы и миленькие, и маленькие? Ничего не значат, и даже меньше, чем ничего, в сравнении с обожаемой, неподражаемой и, как он полагал, на всю жизнь данной супругой.
Фанни, однако, наблюдала за ним сквозь ресницы. Она видела, как он оторопел, как сбавил шаг, как густо покраснел. «Бедняга Джоб, – подумалось ей, – он до сих пор меня любит». Далее, пока шофер вез Фанни по Сент-Джеймс-стрит по направлению к ее впечатляющему особняку (точнее, к впечатляющему особняку мистера Скеффингтона, если смотреть на вещи беспристрастно), она рассеянно недоумевала по поводу этой странной, хотя очевидной способности мужчин – испытывать влечение к нескольким женщинам разом. Определенно ведь в жизни Джоба имеют место женщины – даже сейчас, когда он медлит на тротуаре и краснеет от любви к ней, Фанни. Ему просто необходим целый ряд женщин, иначе он не может; одна пусть ждет его дома, другая – в конторе, третья – бог знает где, в Брайтоне к примеру (недаром ведь он так часто ездит в Брайтон; послушать его – за глотком морского воздуха). Но вот же он, едва увидев Фанни, сбился с шага и воззрился на нее этими своими матовыми собачьими глазами, будто она – единственная любовь всей его жизни. И Фанни, убежденная, что в один период времени может быть только одна страсть, принялась взвешивать собственное терпение – положительно ангельское – к грехам мистера Скеффингтона. Она стерпела их целых семь, прежде чем принять меры, хотя могла бы развестись уже после второй машинисточки (и была бы, между прочим, полностью оправдана даже собственной матушкой, свято верившей, что мужа следует держаться при любых обстоятельствах); тогда сладкая свободная жизнь началась бы для Фанни в двадцать три года, а не в двадцать восемь. Плюс еще целых пять лет свободы, и пусть бы в окружении Фанни каждый фантазировал насчет неподобающего обращения мистера Скеффингтона со своей женой, пусть бы визуализировал ее страдания. Вот чего ей стоило ангельское терпение – пяти лет счастья.
Войдя в свою библиотеку, которая больше напоминала оранжерею (такое неправдоподобное количество цветов присылали в тот период Фанни), и обнаружив среди корзин и букетов Джима Кондерлея, лорда Упсвича, пожилого своего (по крайней мере, он казался Фанни пожилым – на самом деле ему не исполнилось и пятидесяти) и страстного обожателя, готового везти ее на ленч, Фанни задалась вопросом, какая другая женщина на ее месте проявила бы столь ангельское долготерпение. Или же ее ситуация вовсе не требовала долготерпения в таких объемах – ибо мистер Скеффингтон не вызывал у Фанни теплых чувств?
От природы честная, не склонная вилять в том числе перед самой собой, Фанни решила, что суть не в ангельском терпении, а в безразличии, которое охватило ее после третьей измены мистера Скеффингтона.
* * *Но это дела давние, вопреки обратному впечатлению. Фанни тогда было двадцать восемь. Теперь ей почти пятьдесят. Целое поколение мужчин выросло и ушло, точнее – промелькнуло, перед взором Фанни с того дня, когда на Пэлл-Мэлл ей попался мистер Скеффингтон, а чуть позднее, за ленчем в «Беркли», лорд Кондерлей с любовным пылом кормил ее яйцами ржанки (яйца были сварены вкрутую, Фанни разбивала скорлупки и добиралась до плотных, упругих белков). Где-то теперь эти мужчины? Пожалуй, вернулись на землю цветами или травой, были съедены овцами, а затем, уже в виде баранины, – самой Фанни. Все, буквально все рассеялось, растаяло как дым, чтобы перевоплотиться. Вообще жизнь крайне причудлива, размышляла Фанни, вроде коротка, а попробуй дойди до конца: поражает плотностью событий, – но стоит только миновать всего нескольким годам (скоротечностью больше похожим на минуты) – и куда что девалось?.. Родись у нее дети от Джоба, и они сейчас были уже рассеяны, по сути, утрачены для Фанни. Они бы выросли. Вступили в брак. И превратили бы Фанни в бабушку. Невероятно, что с человеком могут сотворить близкие. Она, Фанни, – и вдруг бабушка! И сделана таковой против воли и даже без спросу!
Внуки. Фанни даже произнесла это слово осторожно, будто пробуя, каков его истинный вкус. Можно годами прятаться от людей, если, конечно, они не станут искать в справочнике «Дебретт» год твоего рождения и не выяснят, что ты вот-вот встретишь пятидесятилетие, но внуков не спрячешь, они таки всплывут. Равно как и факт их отсутствия. А кому по вкусу подобные вычисления?
С другой стороны, внуки могли бы заполнить пустоту. Ведь они врываются в жизнь как раз тогда, когда разные приятности начинают из нее выпадать подобно волосам, – разве нет так? Осенью Фанни опасно болела, температура у нее поднималась до критических значений, и волосы теперь уже далеко не прежние; Фанни знала это и очень переживала. Вообще после болезни ничто не казалось прежним. Несколько месяцев Фанни провела в сельской местности – выздоровление шло медленно, – а по возвращении едва узнала Лондон и всех его обитателей, словно это совсем другой город, а что до людей – они принадлежат к другой расе. Поистине раньше ни улицы, ни лица не были столь мрачны и скучны. И сколько умерло знакомых – будто сговорились, думала Фанни…
* * *Обо всем этом Фанни размышляла в постели. Брезжило промозглое туманное февральское утро, но в спальне царили тепло и розовые тона. Сама Фанни была в розовой ночной сорочке (еще несколько лет назад она предпочитала для постельных принадлежностей цвет морской волны; занятная тенденция, подумалось ей, наблюдается со спальнями стареющих женщин – спальни неумолимо розовеют); лампы, затененные розовыми абажурами, отчаянно старались придать свежести ее лицу, огонь в камине действовал заодно с лампами. Вся осиянная розовым, Фанни завтракала – точнее, пыталась завтракать – половинкой грейпфрута.
Ледяная кислятина; определенно зимний день следует начинать как-то иначе – с такой мыслью Фанни отодвинула поднос. Она перешла на половинку грейпфрута, чтобы сохранить девическую хрупкость. Допустим, вы остаетесь хрупки (а после болезни не было и быть не могло женщины более хрупкой, чем Фанни), – но что в этом толку, если у вас выпали практически все волосы? Разумеется, Фанни обратилась в салон Антуана, разумеется, купила локоны, но разве это не кошмарно –покупать волосы, и кому – ей, у которой всего несколько месяцев назад их было такое дивное изобилие? Одно потянуло за собой другое, ибо женщине, носящей на голове нечто ей не принадлежащее, заказаны многие радости. К примеру, бедняжка Дуайт, последний и самый юный из обожателей Фанни (с определенного момента возраст ее обожателей пошел по убывающей); Дуайт, стало быть, стипендиат Родса[2] и выпускник Гарварда, боготворивший Фанни с безоглядностью сугубо трансатлантической, уже не сможет благоговейно касаться ее волос (она позволяла Дуайту эту малость, когда он бывал паинькой). Теперь – не позволит, ибо может случиться ужасное, ибо ужаснейшие вещи случаются с женщиной, которая стремительно разрушается, однако упорствует в том, чтобы держать обожателей.
Воображение быстренько подсунуло Фанни нужную картинку, и некий призрачный, едва уловимый звук, каким сопровождается ироничная усмешка, почти сорвался с ее губ, хотя на самом деле для Фанни все было мрачнее некуда. Обожатели играли очень, очень важную роль в ее жизни – можно сказать, важнейшую: наполняли существование оттенками, теплом и поэзией. Без обожателей Фанни будет точно в пустыне. Правда, они создавали ей и немало проблем – ведь каждый из них в свой черед бросался вот этим вот обвинением: что Фанни завлекла его в сети. Без этой фразы не обошелся ни один роман, и Фанни неизменно испытывала потрясение, словно в первый раз. Завлекла в сети? У нее складывалось иное впечатление: это они, обожатели, сами плыли к ней целыми косяками, она же ничего не делала – ровным счетом ничего.
* * *И вот она лежит в уютнейшей розовой пещере (комфорту ее можно только позавидовать) и думает о своих обожателях, чтобы не думать о мистере Скеффингтоне. За окном густой желтоватый туман, за окном пронизывающий холод; внутри – разомлевшая от тепла Фанни, этакий объект зависти. Зависти? Едва ли. Да, ей тепло, и освещение в спальне как на картинах старых мастеров, но кто бы стал завидовать Фанни, если бы знал: она сейчас – комок зудящих нервов, она глаз не сомкнула всю ночь, а что до грейпфрута, кислого и мокрого, он только усугубил ее состояние. Пожалуй, сказала себе Фанни, с отвращением косясь на бледную кожуру, зимой, пока она еще не совсем оправилась после болезни, надо бы ей завтракать чем-нибудь горячим и более питательным – кусочек рыбы подошел бы…
И, пожалуйста, вот он, тут как тут – мистер Скеффингтон: явился при слове «рыба». Фанни гнала его – а он вызван единственным словом, и Фанни уже не в спальне, а на первом этаже, в столовой: мистер Скеффингтон отделен от нее серебряным блюдом для рыбы, Фанни отделена от мистера Скеффингтона кофейником – именно такова была мизансцена во время столь многих скучнейших завтраков, что пришлись на бесценные годы восхитительной молодости Фанни – ее первой молодости. Мистер Скеффингтон, в перерывах между прожевыванием и проглатыванием рыбы, вскидывал на Фанни влюбленный взгляд и, лопаясь от несносной гордости собственника, сюсюкал: «А как поживает моя малюточка Фанюточка, моя Фанечка-желанечка в это дивное утро?» – даже если утро было совсем не дивное, даже если дождь лил как из ведра, даже если считаные часы назад, когда мистер Скеффингтон жаждал проникнуть к Фанни в спальню, она дала ему горячий отпор и заверила, что никогда, никогда не будет ни малюточкой его, ни желанечкой, а почему – пускай спросит у машинисток.
Все из-за его непотопляемого оптимизма в отношении женщин, все из-за его страстной неуемности.
* * *Измученная, Фанни откинулась на подушки, закрыла глаза и предалась мрачным мыслям. Она не спала нынче ночью; она изо всех сил старалась не вспоминать мистера Скеффингтона; сцена из прошлого стала последней каплей.
Горничная вошла почти беззвучно, оценила обстановку, убрала поднос, не потревожив своей госпожи, и исчезла. «Вот, значит, каковы мы нынче утречком», – подумала про себя эта женщина по фамилии Мэнби.
«Невыносимо! – говорила между тем Фанни самой себе (глаза по-прежнему закрыты, голова покоится на подушках, незрячее лицо запрокинуто к потолку), – теперь, оказывается, нельзя даже подумать о рыбе без какой-либо связи сним, без того, чтобы он не выскочил, словно черт из табакерки!»
Похоже, Фанни все-таки придется идти к врачу – который, конечно, первым делом спросит, сколько ей лет, а когда она скажет правду (какой смысл лукавить с докторами?), он заговорит о специфическом периоде ее жизни. От самой этой фразы Фанни передернуло. Однако дело принимает серьезный оборот. Сейчас февраль; именно в феврале Фанни вышла за мистера Скеффингтона – ну и что же? С тех пор, как она с ним развелась, минуло достаточно февралей, и ни в один из них Фанни даже не вспомнила о бывшем муже. Он был задвинут в прошлое, лежал тихо, вел себя паинькой, и Фанни думала, что на нем поставлен крест. А вот нет же – мистер Скеффингтон подстерегает ее за каждым углом.
Надо его окоротить. Кто он такой? Всего лишь фикция, плод ее воображения, но именно поэтому его появления так тревожат Фанни. Свихнуться в пятьдесят лет – скверное завершение блистательной карьеры. И разве Фанни не сделала все, что было в ее силах, разве мало урезонивала себя, старалась рассуждать здраво, абстрагироваться от видений? Она велела убрать из столовой стул мистера Скеффингтона; она принимала холодные ванны – чего же еще? Правда, вскоре обнаружилось, что меры эти бесполезны. После холодной ванны ее весь день знобило, а что до стула, так ведь мистер Скеффингтон, будучи плодом воображения, продолжил на свой стул усаживаться. Плоды воображения – они такие, с неохотой признала Фанни. Садятся на что придется, даже на то, чего нет.
Словом, надо что-то предпринять. Иначе нервный срыв неминуем. После сегодняшней кошмарной ночи, которую Фанни вытесняла из памяти мыслями о Дуайте, о былой красе своих волос – да о чем угодно, лишь бы сдерживать натиск мистера Скеффингтона, – придется пойти к врачу, хотя это не в стиле Фанни, – связываться с врачами. Ибо этой конкретной ночью мистер Скеффингтон был невыносимо реален. Может, он и плод воображения, не больше; в таком случае он сделал честь ее воображению, явившись столь четким и объемным, и притом в один миг. До сих пор мистер Скеффингтон всего-навсего досаждал Фанни в дневное время: сидел с нею за столом, подкарауливал в библиотеке, провожал в гостиную, – но вчера вечером, в тридцатую годовщину их свадьбы (Фанни как раз вернулась с вечеринки, но отнюдь не в приподнятом расположении духа, ведь все гости были ужас какие зануды), мистер Скеффингтон поджидал ее в холле. Он взял ее за руку – во всяком случае, таковы были ее тактильные ощущения – и поднялся наверх вместе с ней, совсем как тридцать лет назад, и торчал в спальне, пока Фанни раздевалась, и встал на колени, чтобы сунуть ее ножки в комнатные туфельки, и даже поцеловал эти ножки – сначала одну, потом другую. Омерзительно, когда к твоим ногам прикладывается губами плод твоего же воображения, подумала Фанни, распахнула глаза и резко села на постели.
* * *И уставилась на пламя в камине – такое яркое, такое реальное. Восхитительное пламя. Восхитительная спальня и все, что в ней и за ее пределами. Не о чем тревожиться; право, не о чем. Нужно взять себя в руки. А если в груди – противный холод, так это от грейпфрута, и только от него.
Мэнби, судя по всему, способная видеть сквозь стены, скользнула в спальню ровно в тот момент, когда Фанни открыла глаза. Мэнби вошла боком, чтобы в дверном проеме занять минимум пространства и не допустить сквозняка; на подносе она несла утренние письма.
– Какой костюм приготовить миледи – серый или коричневый? Или миледи наденет черный? – вопросила Мэнби.
Фанни не ответила. Она повернула голову, бросила взгляд на поднос; колени ее были подтянуты к подбородку и пребывали в замке рук. Писем целая груда – но все даже с виду скучные. Как странно: стоило Фанни вернуться из деревни, как все письма и сообщения, оставляемые по телефону, сделались ужасно неинтересными. Что произошло с ее знакомыми? Теперь уже не услышишь в трубке приятного мужского голоса. Звонят только родственники да приятельницы, а мужчины, подобно волосам, кажется, выпали из жизни Фанни. Нельзя было покидать общество на такой долгий срок. Следы всякого, кто на это решается, очень быстро бывают затоптаны. Конкуренция высока и перманентна; о человеке забывают слишком легко, даром что само предположение, будто легко забудется она, Фанни… само это предположение…
– Какой костюм приготовить миледи – серый или коричневый? Или миледи наденет…
Как странно, думала Фанни, сгребая письма с подноса: почему в последнее время вокруг нее развелось столько зануд? Сплошь скучнейшие мужчины: мужчины, которые ею совершенно не интересуются, – а потому неинтересны и ей самой. Открытие это потрясло Фанни, когда она, вернувшись в Лондон, только-только возобновила посещение званых вечеров. Казалось, Лондон заполонен занудами. Откуда они взялись, недоумевала Фанни. Куда ни отправишься – они гарантированно будут там же. Определенно Лондон переменился за время ее болезни. Люди, включая приятелей Фанни мужского пола, утратили присущую им живость и не были даже вполовину столь занятны, сколь ей помнилось. Они проявляли к ней повышенное внимание, выказывали крайнюю озабоченность возможными сквозняками и тому подобным, но у них не находилось для Фанни иных жестов, кроме дружеского поглаживания ее руки, и иных слов, кроме: «Бедная малюточка Фанни, тебе надо окрепнуть. Хорошее средство – говяжий бульон; попробуй». Все они постарели, а молодые им на замену не явились – не иначе потому, что ритм жизни чудовищно ускорился. Правда, есть Дуайт, но он как раз сейчас держит экзамены (или сдает, или что там делают с экзаменами) и лишь один раз сумел вырваться к Фанни из Оксфорда. Все стали такими серьезными… или даже нет – озабоченными. Раньше только и думали, что о Фанни, а теперь откуда-то взялась рассеянность. Раньше при всяком удобном случае нашептывали ей на ушко разные приятные вещи – чепуху, если вдуматься, – а теперь толкуют о ситуации в Европе, и в полный голос, во всеуслышание. А для Фанни разговор, который слышно всякому, интереса не представляет.
– Какой костюм приготовить миледи – серый или…
Ситуация в Европе, конечно, такова, что поневоле заговоришь во всеуслышание; с другой стороны, сколько Фанни себя помнила, с Европой всегда было неладно, однако не наблюдалось никакой связи между ситуацией в ней и милыми пустячками, нашептываемыми на ушко. Кстати, как давно ей, Фанни, не нашептывали? Вчера, на скучнейшем званом ужине, была одна барышня – не в меру полнокровная и румяная, единственная дочь хозяев дома, – так вот пожилой мужчина, сидевший с нею рядом, что-то шептал ей на ухо. Фанни заметила это случайно, скользнув взглядом через стол, и задумалась: когда в последний раз нашептывали на ушко ей самой? Хозяйскую дочь она не назвала бы и хорошенькой: юность и тугие щечки – вот и все, чем эта девица располагала. Тугощекая юность; похоже, сейчас только она и в цене, сказала вчера Фанни себе самой и снова повернулась к хозяину дома. Ее неприятно кольнул тот факт, что мысль ее оказалась приправлена ядом, ибо никогда раньше – во всю свою жизнь – Фанни не замечала за собой язвительности.