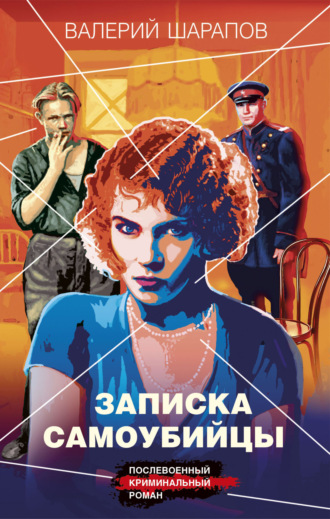
Полная версия
Записка самоубийцы

Валерий Шарапов
Записка самоубийцы
© Шарапов В., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
* * *
Часть первая
Как беззаботно поют птицы в эту весеннюю ночь, самозабвенно вопят лягушки! Как замечательно пахнут нагревшиеся за день щебень и шпалы, как ярко сияют под луной блестящие рельсы! Бесконечность в обе стороны, иди – не хочу.
Если человек всю жизнь прожил на берегу моря, или реки, или посреди степей – его от этих «красот» с непривычки может и вытошнить. Нормальной персоне, которая все годы своего бытия обитает исключительно на городской окраине, нет особого дела до всех этих морей-степей. И когда на душе легко, все в жизни идет правильно, то куда приятнее и эти привычные ароматы, и эти условные красоты природы, и даже креозотовый дух кружит голову похлеще крымских магнолий и ночных фиалок. Ночью к тому же все по-иному, все сказочно изменяется.
Это когда на душе легко и в жизни все правильно.
У Светки Приходько не так. Она плачет и рыдает, ибо сердце у нее разбито, и весь ее маленький мирок рушится на глазах. А все потому, что Яшенька на свидание пришел совершенно не в себе, бледный, глаза в разные стороны. На робкие вопросы, не болен ли, не случилось ли что на работе, лишь отмахивался, мотал головой, как конь, а то и заливался бессмысленным отрывистым смехом, прикрывая ладошкой рот и переминаясь с ноги на ногу.
Конфеты, правда, преподнес, как было у них заведено. Только сначала на них уселся, превратив в кашу. Если бы только это – то ничего страшного, форма – не главное, и раздавленная конфета, по сути, по-прежнему конфета. Однако дальше – больше.
Дошли до парка, а там расфуфыренная, завитая и подкрашенная «старуха» лет восемнадцати оттерла Светку, подцепила Яшу под руку и оттащила в сторону, что-то втолковывая, делая жесты в сторону танцплощадки, где уже раскочегаривали патефон и для разогрева уже побузили. Было видно, как капитан Сорокин и сержант Иван Саныч утихомиривают беспутных, обещая им неприятности.
И хотя Яша отрицательно покачал тяжелой, тянущей вниз головой и эта ведьма отклеилась, но все-таки оскалила зубы в сторону Светки: «На детский фронт перекинулся? Ну-ну».
Зря, стало быть, Светка «взрослую» прическу строила, зря под шумок мамкину шаль похитила и даже втихую потратила пару драгоценных заветных капель духов «Белой ночи». Все равно, как ни поверни, малолетка.
Окончательная беда разразилась, когда расположились в кинозале и погас свет.
Показывали «Красный галстук». Яшка эту картину терпеть не мог и пошел в очередной раз ее смотреть, лишь уступая нытью Светки и за компанию. Но если прошлые разы он помалкивал, то теперь нет. Вслух, не стесняясь, нудил, что скукотища, что Шурка – слон в посудной лавке, Валерка – тупица и барчук, что вся эта история гроша ломаного не стоит: надавали бы друг дружке по мордасам – и мир. На него шикали со всех сторон, было неловко.
Светка уже не рада была, что настояла на походе в кино. И когда он наконец-то стих, перевела дух. Глянув, увидела, что заснул, да так крепко, что чуть не пустил слюну. «Умаялся, утрудился, бедный», – умилялась девчонка, но недолго. Яшка всхрапнул, заворочался на обшарпанном жестком кресле, свесился. Светка попыталась его поднять (ведь не дело, когда кровь к голове приливает), а он, бормоча: «Таська, прорва ненасытная», потянул руки…
При одном воспоминании об этом девчонка взвыла белугой и не сдержалась, снова зарыдала. Тогда же просто взвилась шутихой под потолок, прямо по головам ринулась прочь из зала, не обращая внимания на шипение, ругань и тычки зрителей.
Сначала твердо решила броситься под электричку, но, как назло, та никак не шла. Потом рассудила: лучше утоплюсь, и даже дошла до пруда. Однако на месте вовремя сообразила, что в таком пруду, даже по весне полноводном, топиться – только курам на смех. Вывозишься в иле вся, а то и растворишься, как в кислоте какой. Грязно там, вон как масляная пленка дрожит на воде.
Целую вечность Светка страдала под луной, слонялась без толку, без цели и, опомнившись, увидела, что невесть как очутилась на их с Яшкой тайном месте, как в шутку они его называли, «на даче».
Непосвященному взгляду это место показалось бы помоечным: заросли облезлого ивняка под железнодорожным откосом, через трубу под путями бежит, поспешая, заросший ручей, чуть поодаль он собирается в лужу, которую лишь снисходительно можно назвать прудом. Там и орут глупые лягушки, которым все нипочем.
Вот и бревнышко, на котором столько с Яшей пересижено, переговорено, вот следы очага многочисленных счастливых костерков, которые палили, глазея на пробегающие мимо поезда, мечтая о разных вещах.
Неужто теперь всему конец?
Светка без сил опустилась на заветное бревнышко, пошарив, отыскала спички, бересту, спрятанные в последний раз в тайнике, который Яша собственноручно устроил. Не удержалась, вспомнила о нанесенной ей обиде – и снова разревелась.
Когда же слезы-то кончатся? Уже аж икать тянет, а они все льются, и голова раскалывается, и блуждающие огоньки перед глазами… хотя нет, не блуждающие, а вроде бы от свечки огоньки. И не блуждают, а маячат в двух окнах старой казармы, что по ту сторону путей. Как будто кто-то там ходит.
Светка вспомнила: там, на первом этаже, квартирует капитан Сорокин. Сам он откуда-то то ли с Мещанки, то ли с Петровки, то ли с Покровки, но каждый раз из центра на окраину не накатаешься, вот он и выбил себе служебную жилплощадь. Поскольку он бессемейный, а свободных жилых метров в районе на всех не хватает, все, что нашлось для начальника отделения милиции: одна из двух оставшихся обитаемыми комнат расселенной казармы.
Казарма эта – старое, дореволюционное строение, возможно, раньше служившее дачным вокзалом: высокие потолки, большие окна, ступеньки и даже колонны. То есть были раньше колонны, поскольку из-за близости к железнодорожным путям строение неоднократно страдало: то подожгут, то разбомбят. Так что по итогам всех злоключений колонн не осталось, а пригодным для обитания осталось лишь одно крыло, и то жителей из него год как переселили в отстроенные дома. Теперь тут квартировали лишь двое – путевой обходчик Иван Мироныч Машкин, тоже, как и капитан, одинокий, потому отодвинутый пока по жилищному вопросу на неопределенное время, и сам Николаич, Сорокин. Вот эти его два окна, ближе к углу.
«Кто же это у него там? – удивлялась Светка. – Николаич на танцах и останется там до конца, то есть пока не разойдутся, кому же у него, в его отсутствие, со светом бродить?»
Любопытно. Хотелось бы разглядеть происходящее, но откуда-то у холостяка капитана, по-солдатски равнодушного к любым украшательствам, появились занавески. Они задернуты, и что там, за ними – не видать. И верхний свет погашен – это и понятно, зачем бы тогда со свечками там ходить? Кстати, почему бы люстру не включить?
В этот момент пролетела с ревом и звоном электричка, но почему-то огонек в капитанских окнах был по-прежнему виден ясно.
Из-за темного времени и с расстройства в Светкину голову полезли мистические, сугубо девичьи мысли – о привидениях, покойниках и прочем, от чего трясутся поджилки. Прибыв сюда, к тетке Аньке на хлеба, Светка слышала разнообразного рода страшные истории о призраках то ли десантников, то ли летчиков, погибших на станции. О тех, которые до сих пор бродят по путям, отыскивая своих губителей.
«Ну хватит», – приказала она себе.
Воспоминания о капитане Сорокине, виденном на танцах, немедленно породили и другие, более реальные воспоминания о противной «старухе», и Яшке, и его безобразиях в кино, и даже о никогда не виданной, но ненавистной Таське-прорве, чтобы ей ни дна ни покрышки.
Злые слезы вновь закипели на глазах.
«А плевать. Никакого дела мне!» – Светка с удовольствием разревелась. Когда поток слез наконец иссяк, девчонка твердо решила, что никогда не выйдет замуж и посвятит всю свою жизнь добрым делам.
1
– Сбежим, а?
Уставший Андрюха-Пельмень, не открывая глаз, переспросил:
– Куда?
– Да хоть куда.
С вечерней гулянки друг Анчутка вернулся необычно недовольный, мятый и смурной. Странно. Обычно он, отработав смену, поспешно отчищался, отглаживался, напяливал свежую рубашку и пиджак, лихо строил из бараньих кудрей политзачес – и летел на волю, треща крылами.
Ему-то хорошо, не шибко он утомляется на работе. Он ведь целый помощник хронометражиста, а профессия эта почетная, непыльная, только и знай – за другими присматривай, щелкай секундомером да розовые щечки надувай от сознания собственной значимости.
Андрюха же – по-настоящему трудящийся, в учениках наладчика, и потому котовать нет у него ни времени, ни сил. Работа страсть какая интересная, но трудная, беспокойная, каждый раз что-то новенькое вылезает, да такое, что просто швах, некогда носа утереть, дней не хватает. Вот и сегодня Андрей так устал, что невесть как дополз до общаги, глаза слипаются, даже кусок в горло не лезет – была горбуха, и та так и осталась лежать в тумбочке нетронутой.
Вроде бы все выставлено-налажено, а как запустили станок – идет ткань с браком, хоть ты тресни. Созвали совет в Филях, сообща сообразили, что сорт ткани такой, что требует специальной вилочки. Андрюхе сгоряча показалось, что старшие разводят бодягу на ровном месте, а дел – на тьфу и растереть. Вот же валяется старая вилочка, осталось ее обточить. Мигом все обделал, установил – а станок, зараза такая, как гнал брак, так и гонит.
Версии вспыхивали одна за другой. «Может, вот в чем дело…» – ползал и пыхтел Пельмень до тех пор, пока мастер не напомнил: время, товарищ.
– Ударник, чеши отдыхать.
– Я ж совершеннолетний! – вскипел Андрюха, но его быстро остудили:
– Знаем, какой ты из себя совершеннолетний. Иди, иди, не война, чай, – и мастер выставил его вон.
Вот ведь бдительные какие! Документы-метрики выправлены умело, комар носа не подточит, а почему-то буквально всем известно, что в дате рождения года приписаны…
И вот, когда самая работа, в разгар интересного дела, все, чумазые и веселые, будут копаться в металлических кишках в поисках причин неправильной работы станка (и обязательно найдут!), Андрюху, как дитя малое, гонят на горшок и в люльку.
Вот так вся жизнь и пройдет мимо!
Яшке, повторимся, все равно. Это известный рационализатор, ему бы абы что, лишь бы поменьше работы при той же зарплате. Очень ему нравится других контролировать – вот дело по нему, а вечерочком – по пивку и по девочкам. Кот белобрысый.
Однако нынче он не в настроении. Придя в комнату, даже не удосужился разоблачиться (хотя обычно к своему небогатому туалету относился трепетно), лишь пиджак скинул и, как был, в белоснежной рубахе и отглаженных брючках, завалился на койку.
– Я интересуюсь, куда ты собрался сбегать, – лениво скосив глаза, спросил Пельмень, – и, главное дело, зачем?
Друг завозился, ворча, как не вовремя разбуженный пес, невпопад отозвался:
– Шамать чет охота.
– В тумбочке возьми горбушку.
Однако неузнаваемый сегодня Анчутка еще и капризничал:
– Ну на… – прибавил он цветастое и непечатное слово, потом занудил вновь, – Пельмень, а Пельмень. Ты спишь?
– Уже нет.
– Скажи, зачем нам вот это все?
– Заколебал, – заметил Андрюха, – что «зачем» и «это все»?
Яшка перевернулся на живот, со столовских харчей плоский, как доска, опершись локтями, вперил в друга опухшие, сине-красные злые глаза:
– А вот весь тухляк. Гроб этот с тараканами, вкалывание от сих до сих, жратва эта пустая…
Пельмень от усталости даже не особо удивился его словам, просто задавал вопросы:
– Ты чего с жиру бесишься? Плохо честно работать? Или не нравится, что крыша над головой есть, питание? Чем плохо?
– Всем плохо, всем! – то ли взвыл, то ли простонал Анчутка. – Душа горит, Андрюха. Погибаю.
Пельмень принял сидячее положение, приказал:
– А ну дыхни.
Почувствовав выхлоп, отвесил другу подзатыльник:
– Денег на эту заразу не жаль? И откуда достаешь-то?
Анчутка вякнул в том смысле, что имеет право как совершеннолетний, Пельмень отмахнулся:
– Ври больше. Тут все знают, какой ты из себя «совершеннолетний», кто тебе отпустит? Стало быть, где-то по соседству берешь? И ведь не влом тебе бегать.
– Отпускают тут, в подвале!
– Рот я тебе зашью – попьешь тогда.
Осознав, что заснуть все равно пока не получится, а другу требуется немедленно вправить мозг, Андрюха уселся поудобнее и закутался в одеяло. Хотел было начать сразу с ругани, да глянул на Анчутку – и пожалел парня.
На него было больно смотреть. Он грустил, впечатав лоб в стекло, стоя коленями на табурете, локтями опираясь на подоконник. Весенняя природа и заоконные виды способствовали его ипохондрии и цыганской тоске. Сгущались сумерки, почки уже еле сдерживали набухшую листву, вот-вот вырвется на свободу зеленый шум. Под окнами пробовали клавиши аккордеона, не по-деревенски разухабисто, а красиво и как-то нежно, так, что за душу хватало.
Пыхтела и постреливала машина, на которую грузилась новая боевая единица охраны правопорядка: недавно образованный комсомольский патруль бригадмила.
Капитан Сорокин, который по состоянию здоровья решил больше доверять другим, неоднократно поднимал вопрос о том, что пора бы и общественности подключаться к делу охраны порядка. Коль скоро на фабрику приходится основная доля бузотеров, то логично именно на ее базе образовать и дружину, бригаду добровольных помощников милиции.
Претензии капитана имели под собой основания. По мере расширения производства рабочих рук все больше не хватало, приходилось расширять и оргнабор из ближайших областей. Люд приезжал разный, в основном удалось сорвать с насиженных мест неотесанную молодежь. С одной стороны, работала она на совесть, иной раз и по три смены. С другой – находила и время, и силы устраивать попойки, драки, а не то и похлеще безобразия.
– Бригада охраны правопорядка нужна, – втолковывал Сорокин на собрании актива, – во-первых, чтобы возникла наконец личная ответственность за порядок и безопасность, во-вторых, чтобы появилась еще одна форма досуга, полезного и увлекательного.
Второй довод капитана вызвал нездоровый хохот – посмеялись и вроде бы забыли. Однако Сорокин непрост и настойчив. Он вновь и вновь возвращался к этому вопросу, пользуясь различными случаями, с флангов и в лоб. И наконец накрепко внедрил в умы осознание того, что без дружины просто никак, причем так ловко, что сейчас мало кто понимал, что мысль эта привита извне.
– Бригада необходима вам самим, люду фабричному. Только вам – и никому более.
И хитроумный капитан уже с недоверием вопрошал:
– Неужто позволите кому-то свои порядки наводить, и это же на вашем родном предприятии?
Фабричные как по-писаному предсказуемо вознегодовали в ответ:
– Как же!
– Еще чего!
– Ишь что удумали!
И прочее.
Иезуит Сорокин продолжал, уверенно поддерживая народ:
– Пролетариат должен быть не только хозяином средств производства, кузнецом своей судьбы. Трудящийся имеет право на безопасную жизнь! И потому предлагаю донести это до руководства. Конечно, наверняка будет иметь место противодействие…
Снова последовало ожидаемое негодование: ишь что начальство удумало, здоровые инициативы душить, надо будет – и выше пойдем, и в том же духе. Да так хорошо, дружно возгорелось из искры пламя, что осталось только мысленно встать на колени перед ни в чем не повинной Верой Вячеславовной.
Главное – это результат стараний Сорокина. А именно: создан летучий отряд охраны порядка, который собирается на патрулирование. Да еще и на автомобиле, который выделила отзывчивая директор фабрики, уступая настоянию актива.
Свою миссию застрельщика и гегемона Сорокин как-то деликатно и незаметно переложил на кадровика Марка Лебедева. Это была самая подходящая кандидатура: студент-заочник, будущий юрист, мечтающий о карьере в угрозыске, нетерпеливый, горящий энтузиазмом, до всего ему было дело, ведь скучно возиться с листками учета, анкетами, личными делами. Комсомолец Лебедев неутолимо жаждал подвига.
– Простаивает же машина, Вера Вячеславовна! – убеждал новый предводитель бригадмила. – Хулиганье, спекулянты, пьянчуги распоясались, а мы не поспеваем, ногами мостовые утюжим, а нужна быстрота, нужен натиск! Прямо-таки необходима махновская летучесть…
Вера Вячеславовна предостерегла:
– Не увлекайся чуждыми веяниями, Марк. Но машину выделю, не плачь.
Лебедев не только не обиделся, он не обратил на шутку никакого внимания. Он видел главное, перед его глазами вспыхивали новые сияющие перспективы:
– И будет это летучий патруль! Будем летать по самым глухим уголкам района!
Машину подштукатурили, зачистили ржавчину, украсили по борту лентой бракованного полотна, на котором вывели «Комсомольский патруль». Пошили из брака же огненные кумачовые повязки, надписали «Дружинник» – и теперь в полной боеготовности загрузили машину до осевших рессор.
Патрульный «катер» уходит в рейс, а Анчутка тоскует, провожая его завистливым взглядом:
– Даже эти куда-то едут!
Немедленно, как по заказу, со стороны железки издевательски загудел пассажирский состав. И в нем какие-то бездельники ехали, уносились в мягких недрах вагонов за каким-то лешим в некие неведомые, но непременно радужные и солнечные дали. Там не то, что тут – так свято верил Анчутка.
Более трезвомыслящий Пельмень умел извлекать уроки из пройденного, потому по прежней жизни не грустил, во сне ее не видел. Его в настоящее время устраивало все: и работа, и общага, и зарплата, и столовая.
Не устраивал и беспокоил Яшка. Андрей понимал: если прямо сейчас не образумить этого цыгана линялого, которого обуяла тоска по дальним странствиям, то последствия могут быть самыми плачевными. Причем в том числе для Пельменя, ибо когда Яшка вляпывается в истории, достается и Андрюхе – так сложилось исторически.
Поэтому Пельмень вновь, вздыхая, попытался воззвать к остаткам разума друга:
– Это сейчас весна, тепло. Ненадолго ведь. Лето просвистит, и снова настанет холод. Снова, помяни мое слово, застудишься и перхать станешь.
– Не стану! – упрямился Анчутка.
– Снова жрать будет нечего, а ночевать – негде.
– И пусть!
Тогда Андрюха зашел с козырей:
– К тому же по бумагам нам по восемнадцать. Так что…
– Что?
– Посадят, и всего делов.
Анчутка запнулся, но все-таки нашелся и угрюмо спросил:
– Сейчас мы будто не в тюряге? Как бараны на стрижку идем, все по сигналу, по ранжиру, по свистку.
– Тебе-то грех жаловаться, – не удержавшись, поддел Пельмень, – вся работа твоя – секунды засекать и с других спрашивать. Другие вкалывают – ты контролируешь, потому-то и есть время у тебя сопель по ветру пускать.
Яшка немедленно вспылил:
– Не твоего ума дело! Поставили меня люди знающие, понимающие и именно туда, где я больше пользы приношу! А ты, ветошь масляная, молчи в тряпочку.
– Молчу, молчу, – успокоил друга Пельмень, – не кипятись, а то крышечка слетит. Толком говори, что задумал.
Яшка, помолчав, признал, что и сам не особо понимает, чего хочет:
– Вроде бы хорошо все, а вот тянет выкинуть коленце. Вот так идти, идти и раз – мимо своей двери. Надоело, все одно и то же. Скучно! Тоска зеленая!
Андрюха начал терять терпение.
– Эва, куда хватанул. Что за слова такие? Скучно – залезь в ухо к пианисту. А лучше иди проветрись, глядишь, и отпустит.
– А ты… пойдешь? – вскинулся Яшка и с надеждой посмотрел на Андрея, но тот решительно заявил:
– Я не учетчик, я устал и спать хочу.
– Вот и сиди, как гриб старый. А я не могу, мне здесь все… гнильем тянет! – с этими словами Яшка нахлобучил малокопейку – новехонькую, купленную с премии – и подался вон.
– Во дурак-то, – Андрюха махнул рукой, завалился на койку и попытался заснуть. Однако поскольку гад Яшка спугнул первый сон, теперь уснуть стало еще сложнее.
К тому же вновь вспомнились события сегодняшнего рабочего дня, заворочались мысли о том, как, где и что можно было бы подкрутить-подточить, если бы не мастер с его «ударник, чеши отдыхать». К тому же теперь возникло беспокойство за друга: «Что-то задумал? Что за муха укусила? Как бы не влип куда, бестолковый… ладно, если только по сопатке получит, а если что похуже?»
К тому же Яшка, мерзавец, снова начал прикладываться к винишку. Как на грех, в полуподвале неподалеку разливали молдавское, отпускал человек посторонний, не из района, поэтому сомнений в возрасте постоянного клиента не имел, вопросов не задавал – и вот редкий вечер уже без стаканчика обходится.
«А как хлебнет – вечно недоволен. С ним всегда так: не успеешь вздохнуть – и на́ тебе, обязательно коленце выкинет. С жиру бесится, точно, – философствовал Андрюха, закинув руки за голову и с удовольствием ощущая, что вот-вот провалится в долгожданный сон. – Крыша над головой, документы, работа интересная, не на износ, и даже морду никто не бьет…»
Все-таки удалось заснуть, и замелькали перед глазами какие-то веселые картинки, только теперь пробились-таки сквозь впечатления настоящего обрывки прошлого. Замелькали фонари, застучали колеса поездов, унося в дальние дали, и даже потряхивало, как наяву.
Наяву его и потряхивало. Кто-то тормошил, сотрясая койку. Андрюха подскочил, как боб на сковороде.
– Что за… Оп-па, Светка, ты чего?
Светка Приходько, опухшая, как покусанная осами, с заплывшими, зареванными глазами и растрепанной косой, шикнула:
– Не шуми! Комендант рыщет по коридору.
– Ты как же сюда пробралась?
– По пожарной лестнице!
– В платье?
– Не важно! – отмахнулась она, теребя косу. – Какая разница? Скажи Яшке, чтобы он у дома нашего не появлялся.
– С чего такая немилость? – пошутил было Пельмень, но сразу прикусил язык.
Что-то не узнать обычно радостного друга Светку. Ну ровно царевна-лягушка, зеленая, глаза выпученные и на мокром месте. Андрюха вдруг похолодел, вообразив самое пакостное, что могло произойти, сел, стукнул кулаками ни в чем не повинный матрас:
– Он что, тебя обидел?
Светка испуганно поежилась, залепетала:
– Нет, нет, Андрюша, что ты! С чего ты взял? Просто… ну пусть лучше не приходит.
Так, вот и эта, ничего толком не объяснив, собралась на выход.
Славные они ребята, что один, что вторая: растормошат – и вон с глаз. Правда, Светка не сдюжила, у самого окна прорвало-таки. Высоким, вздорным голосом и при этом тихо-тихо заверещала:
– Пусть вообще больше не приходит, слышишь?! Так и скажи ему, этой… – и выдала такое, от чего Андрей глаза выкатил:
– Да ты чего ж лаешься, мелочь пузатая? Совсем нюх потеряла? А ну иди сюда!
Но она, уховертка такая, выпорхнула в окно, махнув косой, как уклейка хвостом.
Пельмень, вздохнув, подумал: «Вот оно что… – Снова улегся, примял кулаком подушку. – Вот и разгадка плохого настроения. Расплевались. Так оно и понятно, нечего им, что у них общего? Она пусть и безотцовщина, а девчонка порядочная, с понятиями. Этот же все, порченый, кошак помойный. А все женский пол».
После кузнецовского дела, с тех пор как ребята окончательно осели в общежитии, от девок прохода не стало – не все, конечно, заигрывали и заглядывались, но многие. Андрюху, к женскому полу устойчивого, прямого и грубоватого, откровенно побаивались, Яшка же, с его льняными кудрями и синими очами, разговорчивый и ласковый, пользовался немалым успехом и по-свински этим злоупотреблял.
С одной стороны, было неплохо, Пельменю перепадали за компанию халявные постирушки, разносолы да пироги, с другой же – частенько приходилось отмахиваться кулаками от обиженных кавалеров, жаждущих возмездия.
«Ничего. Похмельем с утреца помается – и отпустит. Тоже мне, гусак перелетный…» – Мысли в Андрюхиной голове ворочались все медленнее, ленивее и наконец замерли совершенно.
…до тех пор, пока не грохнула о стену хлипкая дверь, не загремели по половицам стоптанные ботинки, чистый воздух как-то очень быстро закончился. В помещение проник Санька Приходько, потный, ярко-красный и дымящийся, как после скачки. Странно, но вопреки своему обычаю он не орал, не матерился, хотя было заметно, что его так и распирает. Он хранил полное молчание и от того был еще более раскаленный и страшный. Спросил отрывисто:
– Где Яшка?!
Андрюха взбеленился:
– Где-где, в … под кроватью! Рехнулись все?! Что за буза на ночь глядя? Я спать хочу.
– Спи, спи, – повторил Санька, на всякий случай заглядывая под койку, – я тебе не мешаю. Так вот, если встретишь дружка своего…
– Что значит «если»?












