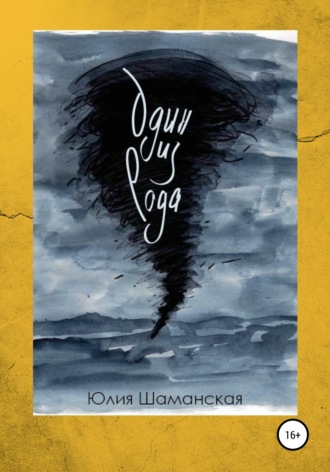
Полная версия
Один из рода
Глава 7. Иван Горшков
Молодой дворянин Иван Федорович Горшков, не смотря на поздний час, все еще лежал в кровати под пологом. Он уже пробовал подняться, и даже надел поверх ночной рубахи тонкий батистовый вытертый на локтях халат, но тусклый свет, проникающий в узкое оконце из грязного петербуржского дворика, заставил его вернуться в кровать.
«До чего же дрянное утро! – подумал он, отворачиваясь от окна. – И это надо было столько времени ждать лета, чтобы получить эту тоскливую слякоть».
Иван Федорович мечтал о деревне. Что может быть лучше родной Николаевки? Простор, воля, молоко, статные беспрестанно смеющиеся над каждым его остроумным (и не очень) словом, девки! И даже подобие «светского общества» там имеется, в виде нескольких семейств мелких помещиков. И даже дамы и девицы, пускай не первый сорт, пускай еще незначительней и бедней его, но отчего же не поволочится, пока молод?
Весь год Иван Федорович мечтал о деревне, проживая в Петербурге, в нанятой по случаю квартире, пока его отец пытался уладить некоторые судебные дела. Мать тоже была чрезвычайно занята. Оббивала пороги благодетелей, выпрашивая хлебные места в министерстве для мужа и сына.
Отец уже имел честь служить в министерстве внутренних дел, в общей канцелярии, занимался важными хозяйственными делами. В юном возрасте Горшкова взяли на службу как сына коллежского секретаря. Он служил исправно и сподобился дослужиться до чина титулярного советника. Впереди маячил «Коллежский асессор». Федор Петрович мечтал о выслуге, о чине статского советника, в обозримом будущем. Однако это ведомство казалось слишком мелким для честолюбивых намерений. Кто его заметит в общей канцелярии? Так могут и забыть, как случилось с отцом (дедом Ивана). Федор Петрович решил действовать. Он пытался задружиться с начальством, бывать на приемах и обедах. Он истрепал не один мундир, пока не нашел благодетеля, который согласился хлопотать о переводе Федора Горшкова из общей канцелярии в особую. Но несчастная страсть к женщинам, преследовавшая отца всю его жизнь, в самый неподходящий момент высунула свое ядовитое жало. Получилась некрасивая история, связанная с супругой начальника – благодетеля, и полетела головушка Горшкова в отставку. Семья Горшковых вновь вернулась в свою деревню. В единственное еще не проданное за долги имение, родную Николаевку. История с супругой чиновника, на горе Горшковым, получила такую огласку, что думать о новом назначении не представлялось пока возможным. Денег тоже не было, поэтому молодой барин воспитывался в совершенно диких, по мнению матушки, условиях деревни. Средств едва ли хватало на то, чтобы содержать гувернера, французский которого оставлял желать лучшего. Немного поправило дело устройство Ивана в гимназию, где он с горем пополам окончил 7 классов. О годах обучения в губернском училище Иван вспоминать не любил. Слишком трудно было после деревенской воли попасть в казарменную атмосферу мужского общежития. Юноша предпочел бы выкинуть это время из памяти целиком. Он злился на родителей, что отправили единственного сына на истязание учителям и сверстникам. Но при этом прекрасно понимал, что обойтись без гимназии было невозможно. Не мог же он похоронить себя в деревне и умереть для общества еще в юные годы?
Вот и теперь, в тусклом свете Петербуржского утра, перед взором Ивана промелькнули серые холодные стены гимназии. Это воспоминание и еще сырость комнаты заставили вздрогнуть его широкие, но худые плечи. Иван получил в наследство от отца атлетическое строение тела. Он был высок, гибок, широкоплеч, но излишне худощав. Икры, облаченные в парадные, узкие по моде брюки отличались изяществом. Грудь в сюртуке и, особенно во фраке радовала глаз красивой пропорцией. Иван выглядел настоящим красавцем, но только при параде. А в тот момент, в тонком халате с босыми крупными ступнями, он напоминал себе угря, запутавшегося в бурой тине. Иван ненавидел свои крупные, покрытые жилистой сеткой ступни и руки, и всячески прятал этот недостаток. Но прятать ступни под одеялом в это утро больше не представлялось возможным. Еще полчаса назад он вызвал к себе Степана и потребовал умываться. Вода в тазу, поди, остыла.
– Туфли, Степан! – скомандовал Иван и решительно сел на кровати.
Позволив себя обуть в расшитые осыпавшимся местами бисером домашние туфли, Иван устроился перед столиком с бритвенными принадлежностями.
Из небольшого посеребренного зеркала на молодого человека глянули его черные глаза, обрамленные длинными ресницами. Иван пригладил всклоченные вихры и улыбнулся своему изображению.
Собственное лицо виделось юноше не лишенным аристократического изящества. Небольшой нос, круглый подбородок, изящная линия лба, маленький рот и губы – все это казалось ему весьма привлекательным. Но главным предметом гордости служил богатый вихор из черных вьющихся волос. Прямо— таки, гусарский вихор!
– Ч-т знает, что! – воскликнул Иван, подставляя щеку под бритву. – Степка, вот это Петербург! Уже белый день, а, пожалуй, придется свечи жечь, чтобы не порезаться во время бритья!
– Будьте спокойны, барин, не обрежу! – слегка поморщился от черного слова Степан.
– Так режь! – Иван приподнял подбородок, чтобы лакей мог обернуть его грудь салфеткой. – Режь брат, я верю тебе!
– С чего бы вам не верить, барин? – пожал крепкими плечами Степан. – Я ж вас с младенчества знаю. Все при вас. Вы мне родной. С какой стати мне вас резать?
– Откуда мне знать? – лукаво покосился Иван на бритву в руках слуги. – Может, затаил что на меня?
– Бог с вами барин! – устало отозвался лакей, взбивая мыльную пену в чашке.
Он привык уже к чудачествам молодого барина, который увлекался чтением газет и считал себя «просвещенным человеком».
– Так как же, Степан, – вкрадчиво напомнил ему барчук, – давеча ты говорил, что хотел бы вольную получить, а теперь говоришь, мы родные. Где же тут логика?
– Что? – остановился на секунду Степан. – Вы уж, простите, но не понимаю я ваших словечек модных.
– Противоречие тут, я говорю!
– Никакого противоречия не вижу! Получил бы вольную и остался с вами.
– А зачем тебе вольная тогда? – удивился Иван.
– А вот затем, чтобы лучше понимали, что я искренне вам служу, а не по надобности.
– Ну, ты даешь, брат! – рассмеялся Горшков.
– Поберегитесь, барин, не дергайтесь, а то и в правду обрежу.
Иван немного помолчал, размышляя о том, что в Николаевке начался купальный сезон. Он тяжело вздохнул, взглянул с тоской в тусклый проем окна на серое небо и продолжил терзать слугу своими фантазиями:
– Степан, а если бы не тебе одному дали вольную, а всем крепостным разом, ты бы хотел?
На мгновение рука слуги повисла над щекой барина, на лбу сложились складки сомнения, но тут же разгладились.
– Нет, – решительно ответил он.
– Но отчего же? – удивленно приподнял бровь барин.
– Если все вольные, в чем тут интерес? Если бы, к примеру, все генералами были, кем бы они командовали?
– Чудак ты, Степан! – закатил глаза к потолку Горшков.
– Диколонить будем, барин?
– Разумеется! Я сегодня на обед к Софье Александровне. – Только экономно расходуй! Новый покупать не на что.
– Знаю я, как не знать! – пробормотал слуга. – Вы уж, скорее женитесь, а то скоро и на мыло не будет.
– Ну, ты поговори мне! – нахмурился Горшков.
Степан, молча, принялся собирать мокрые полотенца и вытирать бритвы. Иван тут же забыл о том, что рассердился. О трудном финансовом положении семьи думать не хотелось. Он подошел к окну и стал наблюдать, как два мужика, что-то выгружают из подводы, перегородившей весь переулок.
– Мостовая мокрая, ночью был дождь. Снова, – вздохнул он. – Ах, братец, сейчас бы в деревню!
– Да куда уж лучше, – мягко согласился Степан. – Но невозможно и думать при нынешнем самочувствии барина.
– Да, уж! – помрачнел Иван. -затянулась болезнь. И теперь, доктор сказал, необходимо ждать кризиса в самое ближайшее время. Скоро будет ясно, если надежда или ждать скорой развязки.
– Каждый день Бога молю, – протяжно ответил слуга, исчезая с тазом за дверью.
Дверь, скрипнув, закрылась, но тут же снова отворилась, и в комнату вплыла худая женщина в темно-коричневом шуршащем многочисленными оборками платье. Она остановилась на пороге, два раза перекатилась с носка на пятку, причмокнула полноватыми губами, и, сложив белые руки, будто в мольбе, произнесла:
– Жан, милый, зачем так долго? Ты совсем уж опоздал к Софи!
– Не драматизируйте, маман! – нахмурился Горшков. – Вы же знаете, меня примут в любом случае. Так даже лучше, будет случай отобедать.
– Конечно, милый, – сразу сдалась маман, целуя Горшкова во влажный после умывания лоб, – но надо знать приличия!
– О, да! – ответил Иван, взглянув на мать выразительным взглядом.
Этот взгляд говорил о многих вещах, хорошо известных собеседникам. И о том, как мало ценит Иван Горшков общество своей предполагаемой невесты. И о том, что он считает союз с ней вынужденным мезальянсом. И о глубокой уверенности Ивана в том, что не только сама «прелестная Софи» влюблена в него, но и ее матушка мечтает выдать дочь купца за дворянина, пусть и бедного. Все складывалось, к несчастью для Ивана, таким образом, что никакие погрешности хорошего тона не в силах были остановить сей печальный процесс.
Все это Наталья Степановна знала слишком хорошо и не имела нужды, чтобы кто-то напоминал ей об этом, даже взглядом. Поэтому она пожала своими худыми, обтянутыми короткой шалью плечами и повторила.
– Людям нашего круга необходимо знать приличия.
– Ах, вот в чем дело, маман! – скривился Горшков так, будто у него болел зуб.
Вероятно, он хотел изобразить на лице улыбку, но мысли о будущей встрече и необходимости волочится только для того, чтобы соблюсти все приличия, превратили эту улыбку в гримасу.
– Ну, так я велю закладывать, – решительно заявила Наталья Степановна, – двадцать минут!
Вновь противно скрипнула дверь, и Иван остался один. Он обернулся к зеркалу, чтобы закончить туалет, и чуть было не рассмеялся при виде своей постной физиономии.
– Вот он, счастливый жених! – пробормотал Горшков, приглаживая тонкие усики.
Горшков рассматривал в зеркале свои молодые привлекательные черты, и ему становилось жалко себя. Для чего природа одарила его так щедро? Неужто, все это для маленькой глупой купчихи Софии Александровны? Ивану эта мысль показалась нелепой и оскорбительной. Он был уверен, что его удалая стать могла быть украшением любого светского салона, но, увы, Ивану не суждено вращаться в аристократическом обществе! И все что он может нынче сделать, это не дать их семье, в коей он является единственным отпрыском, лишится последней деревни и не пойти «по людям». А для этого необходимо жениться на нелюбимой женщине.
«А ведь она даже не слишком богата, – с досадой размышлял Горшков, натягивая перчатки, – жить придется скромно и тихо. А даже, если я сам достигну успеха по службе, то с такой скучной женой путь в общество мне закрыт».
Погруженный в грустные мысли, Иван, не торопясь спустился по старым выщербленным ступенькам парадного, ответил на поклон камергера и опустился на подушки старенького семейного экипажа.
В роскошной квартире, расположенной в добротном доме со скульптурами недалеко от Невского, царила атмосфера уныния и раздражительности. У высокого арочного окна в креслах помещалась полная дама в напудренных буклях и черном чепце. Она держала в сморщенных руках вязание, но не занималась им. Ее тусклые слезящиеся глаза имели сочувственно – расстроенное выражение. Будто не зная, как правильно вести себя, она то выглядывала на улицу, то поворачивала слегка трясущуюся голову в глубину комнаты, где ходила из угла в угол ее дочь. Это была та самая Софи, которую в семье Горшковых рассматривали в качестве «спасения». Всякий раз, взглянув на нее, мать испускала приличный случаю вздох.
– Нет, маман, это невыносимо!
Софи подошла к окну, чтобы в сотый раз взглянуть вниз, на серые плиты мостовой.
– Как можно быть таким невежей! – воскликнула она с раздражением. – Видимо, прогулка уже не состоится!
– Не переживай так, Сонечка! -заговорила старушка примирительно. – Жан так рассеян! Всегда опаздывает. Он придет через минуту, весьма, наверное, придет!
– Ну, уж нет! – фыркнула Софи. – Я не стану больше ждать не секунды! Простите, но я вынуждена подняться, чтобы сменить платье к обеду.
– Ангел мой, куда же ты? – с дрожью в голосе спросила мать. – Что мне сказать, когда они пожалуют?
– Ах, маман, – досадливо махнула Софья, – займите же его чем-нибудь!
– Постой, милая! – отчаянно пыталась удержать ее мать. – Ты же знаешь, что я не образована, как ты! А он дворянин!
Но голос матери напрасно звучал в пустой зале, София уже бежала вверх по лестнице с прытью двадцатилетней девушки, которой ничуть не мешает излишняя полнота.
Слезящиеся глаза маман приняли расстроенное выражение, и она стала смотреть в окно уже с другой надеждой, что жених дочери не сможет прийти.
Мария Семеновна Потапова, богатая вдова известного московского купца, уже успела выдать замуж трех дочерей. София была самой младшей. Может, поэтому родители и старшие сестры так избаловали ее. В детстве Софи обладала всеми атрибутами маленького ангела. Соломенными кудрями, пышными розовыми щечками и склонностью к ласкательству. Девочка, не стесняясь, подходила ко всем женщинам и мужчинам в доме, от лакеев до важных генералов, и пыталась их поцеловать или забраться на колени.
Все лица, принятые в хлебосольном доме Потаповых, обожали маленького Ангела, и она привыкла извлекать максимум пользы из своей миловидности. К 16ти годам Софи располнела и сформировалась во взрослую барышню. Но так и осталась капризным ребенком. К новой ее внешности это совсем не шло. Лишь родные маменька и сестры не замечали этого преображения, и все относились к Софи как к маленькому Ангелу, не переставая баловать ее. В первое время никто из домашних не замечал, что мужчины уделяют Софии меньше внимания, чем ее сестрам. Участь старой девы никак не могла угрожать маленькому Ангелу. Ведь она обладала нежной внешностью блондинки и притягательными формами. Однако непосредственная девушка и не думала скрывать такие мелкие недостатки характера как высокомерие и склонность к капризам. Возможно, это и сыграло с Софией злую шутку. Сестры давно строили семейное гнездышко, а к ней так никто и не посватался. В 18 лет, оставшись наедине со старушкой – матерью, Софи задумалась о своей будущей судьбе. Она затаила обиду на купеческих сыновей, которые проигнорировали ее красоту, и стала презирать их.
«Этим медведям не понять моей тонкой натуры»! – твердила она, мечтая об образованном женихе, желательно знатном. Тот факт, что сестры тоже окончили институты и прекрасно уживались с «медведями», ее не трогал. Ведь в глубине души, Софи считала себя выше и благороднее сестер.
С целью, найти себе ученого и знатного мужа, София переехала в Петербург. И этим сделала свою мать глубоко несчастной. Мария Семеновна ненавидела столицу всей душой, скучала по Москве, по дочерям и внукам и постоянно простужалась. Ее несчастное состояние не могло укрыться от дочери. Но Софи умоляла мать потерпеть, уверяя, что выйдет замуж весьма скоро. Месяц— другой и маман сможет вернуться в свой обожаемый московский дом.
Однако это «весьма скоро» затянулось на два года. Знатные и образованные женихи не спешили в гости к Потаповым, да и к себе не звали.
Познакомиться с Жаном удалось на вечере, который устраивал модный среди аристократии учитель танцев для своих учеников. При виде молодого обаятельного Горшкова, который выглядел настоящим гусаром даже во фраке, сердце Софи забилось сильнее. Сам Горшков казался «совершенно очарованным» ее скромной персоной. В этот день уже начавшая терять веру в свою привлекательность София вновь воспрянула духом.
София Александровна, облаченная в шуршащее платье модного розовато-палевого цвета и маленький кружевной платок, спустилась в столовую, где накрывался обед. Проходя мимо гостиной, она услышала мужской голос. Сердце Софи затрепетало. К обеду ожидался только один мужчина, ее Жан. «Значит, пришел все-таки», – решила она, и вместо того, чтобы войти в столовую отдать последние распоряжения по обеду, поспешила в гостиную. Но там ее ждало разочарование. Матушка все сидела у окна, а рядом с ней стоял, почтительно склонив седую голову, модный петербуржский доктор – новый друг маман.
Софья Александровна избирательно принимала привязанности матушки. «Ей дай волю, так соберет всех нахлебников Петербурга, как было в Москве, – рассуждала девушка. – Это может отпугнуть хорошее общество». Однако доктор Павел Николаевич прошел цензуру Софии Александровны, как достаточно ученый и даже вхожий в дома знати.
– Добрый день, Павел Николаевич, – бросила София от двери.
Досадуя на то, что это все-таки не Жан, она не стала входить, а отправилась «наводить глянец» в столовую. Доктор успел поклониться спине Софии Александровны, и продолжил занимавшую его беседу с маменькой.
В присутствии приятного собеседника Мария Семеновна уже не выглядела старушкой. Ее лицо разгладилось, приобрело свежесть и приятность, в глазах светилось удовольствие.
– Ах, Павел Николаевич! – говорила она, мечтательно закатив глаза. – Как я скучаю за нашим московским домом! Именно оттого я и болею так долго. И что бы вы мне не говорили, в этом деле пилюли бессильны! Ах, как мала эта квартира! Дышать невозможно. Будто сердце давит.
– Что вы Мария Семеновна! У вас прекрасная квартира! – возразил доктор.
– Вы говорите так оттого, что не видели нашего дома! Вы непременно должны к нам приехать! У нас несколько парадных комнат. А одна такая роскошная! Мы приглашали для росписи ее итальянского художника.
– Правда? – удивился Павел Николаевич. – И как же его фамилия?
– Право, не помню. Слишком сложная. Художник как раз был проездом в Москве, и все купцы буквально рвали его друг у друга из рук! Вы должны непременно увидеть нашу залу! Мой покойный муж особо гордился ей. По потолкам и стенам райские птицы, сирены, купидоны! А мебель, какая, французская! Вся зала уставлена диванами и кушетками, оббитыми дорогим шелком.
– Дам-с, любопытно, – насмешливо улыбнулся доктор.
– А вы бы видели нашу залу для приемов! – воодушевленно продолжала Мария Семеновна, не замечая иронии гостя. – Вся в розанах, а на стене портреты наших бабушек и дедушек в полный рост. И еще много стеклянных шкапчиков с хрусталем, миниатюрами, статуэтками из фарфора.
– Да, богато живете, – весело подмигнул доктор, – а портреты славных ваших предков тоже итальянец писал?
– Почем я знаю? Их еще при батюшке повесили.
Их увлекательный разговор прервала красивая пышнотелая горничная с толстой русой косой и слишком самодовольным для крепостной видом.
– Пожалуйте отобедать! – позвала она, небрежно поклонившись, и тут же исчезла за дверью.
– Могу я предложить вам свою руку? – спросил Павел Николаевич.
– С удовольствием! – ответила Мария Семеновна, с явным усилием поднимаясь с кресла.
В столовой собралось немногочисленное общество, состоящее преимущественно из дам, обедавших в семье Потаповых ежедневно. За столом дремала над тарелкой супа старушка – родственница, овдовевшая еще в стародавние времена. Еще одна родственница, худая сорокапятилетняя девица, которую Потаповы привезли с собой из Москвы, успела справиться с супом и с нетерпением поглядывала на двери, ожидая подачи следующего блюда. Конец стола как обычно занимала гувернантка, по приказу Софьи Александровны мучавшая маменьку французским. Вся эта женская часть, как нарочно, обладала столь унылой и непривлекательной внешностью, что Софи выглядела розаном на фоне засохших лилий. Моложавый старик Павел Николаевич, любивший любоваться на милые женские личики, пробежавшись взглядом вдоль стола, остановил его на маменьке, которая, по его мнению, была приятней всех этих девиц, хотя бы своей живостью и искренностью.
Только все устроились за столом, как было доложено о прибытии Горшкова. Софья Александровна стремительно бросилась на встречу «милому Жану», едва не перевернув бокал с вином, который успел подхватить слуга.
– Жан! – недовольно нахмурила она носик, когда Горшков целовал ей руку. – Я пропустила из-за вас прогулку!
– Прошу простить меня, обворожительная Софи, – ответил Иван, напуская на себя печальный вид, – мой папа совсем плох, я не вдруг мог оставить его!
– О, это вы меня простите, – сконфузилась Софья, – больше не стану вас ругать. Присаживайтесь к столу.
Не меняя трагического выражения лица, Горшков сел за спешно сервированный для него прибор, и, без лишних слов, стал поглощать изумительный бульон с профитролями и гусиными потрошками, представлявший собой сочетание французского шика и купеческого изобилия. С каждым глотком Горшков погружался в состояние довольства и неги, с удовольствием поглядывая на слугу, разрезавшего на серебряном блюде восхитительную кулебяку.
«Как хорошо, что Софья Александровна, желающая во всем быть аристократкой, не переделала полностью кухню на петербуржский манер! – размышлял он за обедом. – Впрочем, для этого она слишком любит покушать».
Как и Иван, другие обедающие предпочитали молчать. Говорили только маменька и доктор. И хотя их беседа носила интимный характер и велась в полголоса, в тишине можно было расслышать каждое слово.
– Мой муж», – говорила Мария Семеновна, – не признавал докторов! Он в этом вопросе был скептик!
– Правда? – недоверчиво улыбался Павел Николаевич. – Видимо, ваш супруг был очень здоровым человеком и никогда не лечился.
– Напротив, очень любил лечиться, – возразила Мария Семеновна, – только у него были свои методы.
– Любопытно. И какие же?
– Например, при простуде у нас грудь и горло оборачивали шерстяным чулком, а внутрь принимали пунш. При расстройствах желудка мы лечились квасом с солью, огуречным рассолом, моченой грушей. Но чаще всего муж страдал сердцем и постоянно посылал к цирюльнику за кровопусканием. А в последние годы он увлекался лечением пиявками.
– И что, это помогло ему? – самодовольно поинтересовался Павел Николаевич.
– Кто знает, – вздохнула Марья Семеновна, – жизнь и смерть наша в руках Божьих.
Почти насытившегося Горшкова забавлял этот разговор, так не подходящий к столу. Он с улыбкой повернулся к Софи, и был поражен ее взволнованным видом. Щеки девушки пылали, глаза метали громы и молнии в сторону маман, которая, увлекшись беседой, не замечала состояние дочери.
«Ну, и попадется мамаше, когда они останутся наедине! – посмеивался про себя Горшков. – Ах, если бы ты знала, ах, если бы ты знала милая Софи, что я и без того призираю ваше скучное общество! И все твои потуги казаться дворянкою мне смешны! Если бы ты знала милая Софи, как я презираю сам себя, за то, что хожу в твоих поклонниках! Если бы ты знала, что ради денег я не подам и виду, даже если маменька с доктором сейчас влезут на стол и станут танцевать мазурку. Если бы ты все это знала, дорогая Софи, то не стала бы тратить нервы, время и силы, чтобы мне понравится. А преспокойно ожидала предложения, которое мне придется сделать».
Однако горькие мысли Ивана улетучились со следующей подачей блюд. Принесли жаркое из гуся и петуха в острой подливке. Затем на столе появилась красная капуста, фаршированная икрою свёкла и огурцы в сметане. После обеда гости и домочадцы переместились в залу, где был накрыт круглый чайный стол с самоваром посредине. Имбирный пирог, творожный пирог, сливки и замороженное желе продолжили трапезу. Горшков тихонько расстегнул пуговку на своем вышитом жилете, вздохнул и угостился пирогом с невероятно вкусной наливкой. От этой вкуснейшей «амброзии» в его глазах петербуржский день стал более светел, а присутствующие дамы показались довольно милы.
Когда убрали чайный стол, София Александровна предложила petit— jeux. Но присутствующее серенькое общество, осоловелое после сытного обеда, не выразило энтузиазма играть. Даже шарады и рифмы казались, развалившимся в креслах гостям неподъемным грузом. Тогда Софи предложила развлечь гостей своим пением, и, получив положенную порцию «просим, просим», подошла к роялю. Аккомпанировать ей взялась гувернантка маман. Послышались первые аккорды модного романса, София приложила к широкой груди свою пухлую ручку, сделала вдохновенное лицо и приготовилась петь. Но ее отвлекла новая гостья, возникшая на пороге гостиной.
– Натали, дорогая, как я рада! – несколько напряженно защебетала Софи, устремляясь к двери.
Горшков лениво, не поворачивая головы, последовал взглядом за Софьей и обомлел. Он увидел перед собой замечательную красавицу, присутствие которой так не вязалось со скучным обществом старушек и увядших девиц. Иван весь подобрался, незаметно застегнул жилет и изобразил на лице развязность пополам со снобизмом (именно так, по его мнению, должен был выглядеть светский человек).








