
Полная версия
Однажды ты пожалеешь
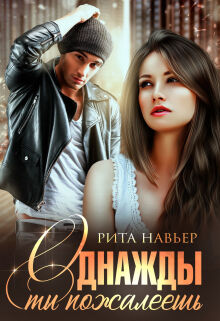
Однажды ты пожалеешь
Автор: Рита Навьер
Часть 1. Даша
1
Подмосковье. Настоящее время. Декабрь.
Я несусь, хватая ледяной воздух ртом, и задыхаюсь. Лёгкие будто туго набиты стекловатой. Лицо болезненно горит. Неуклюже балансирую на скользких тротуарах, пытаясь никого не сбить, но всё равно натыкаюсь на чужие локти, плечи, сумки.
На здании энергосбыта мерцает красным табло, информируя, что сейчас минус двадцать четыре по Цельсию и три минуты девятого.
Чёрт возьми, всё-таки опоздала.
Бегом взлетаю по ступеням школы, врываюсь в фойе и… сразу же напарываюсь на взгляд Исаева, как на нож. Проклятье!
Чуть подщурив веки, он смотрит внимательно и насмешливо. Словно сытый кот на несчастную мышь, которую прямо сейчас прибить лень, а вот всласть помучить забавы ради – самое то.
Я торопливо отвожу глаза. Пожалуй, слишком торопливо. Сердце, ухнув, сжимается. Щеки вспыхивают, но после пробежки по морозу лицо и так красное – слава богу, не видно.
Как же я ненавижу Исаева, кто бы только знал! Из-за него что ни день в школе – то пытка. Из-за него реву в подушку ночами. Из-за него считаю, сколько осталось до конца учебного года. И сегодня утром встала с мыслью: нужно вытерпеть ещё сто сорок шесть дней… Ещё сто сорок шесть кошмарных дней – и этот ад закончится. Навсегда. Боже, где бы только взять на это сил…
Самое смешное, что кроме меня, во всей школе не найдется, наверное, никого, кто относится к нему плохо. Если такие и есть, то они это умело скрывают.
Ну а в нашем классе Исаева просто обожают. Среди парней у него железобетонный авторитет. Порой такое чувство, что они шагу без его дозволения не могут сделать. Только и слышно: Андрюха, на последний урок идём или забьём? А что делать будем? А после занятий куда? А на выходных собираемся? А где, а что, а как…
Как стадо баранов, честное слово.
Ну а среди девчонок – так и вовсе повальное помешательство Исаевым. Глазки напропалую строят, хихикают над каждым его словом, готовую домашку в клювике ему несут, чтоб не натрудил свой мозг.
Он, конечно, смазливый и, наверное, может быть обаятельным, когда захочет. Но, черт возьми, неужели никто не видит, какой он подонок?
Исаев сидит на подоконнике ровно напротив входной двери. Одну ногу, согнув в колене, примостил на батарее под окном, вторую свесил и неспешно покачивает. Вместо школьной формы на нём – серые джинсы с драными коленями, чёрная толстовка Рибок, красные конверсы. И плевать ему на дресс-код, на то, что уже начался урок, на котором классная обещала дать четвертную контрольную… впрочем, с классной у него особые отношения. Но в любой момент здесь может появиться завуч или директриса, которые непременно спросят, какого черта он прогуливает. На всё ему плевать.
Он сидит себе, флегматично жуёт, как обычно, мятный Орбит и нагло меня разглядывает, пока я нервно и быстро пересекаю пустое фойе, старательно делая вид, что не замечаю его.
А ещё молюсь каким ни на есть богам, чтобы Исаев ничего не сказал и, особенно, не увязался за мной следом. Пожалуйста, пусть хотя бы сегодня он оставит меня в покое!
Я вбегаю в гардероб, рывками выпутываюсь из длиннющего шарфа, сдёргиваю пуховик, нетерпеливо колочу в закрытое окошко. Пугаюсь, что гардеробщица куда-то уплелась, но потом слышу из глубины раздевалки ворчание. Она та ещё мегера, но сейчас я ей рада и мысленно подгоняю: «Ну же! Скорее! Да шевелись ты уже!», каждую секунду оглядываясь на дверь. Только бы Исаеву не вздумалось притащиться сюда следом!
Да, я его не только ненавижу, но и боюсь… Изо всех сил стараюсь, конечно, это скрывать, но, уверена, он прекрасно всё видит и понимает. И упивается моим страхом. Но сейчас в дверном проёме, слава богу, никого.
Наконец пластиковая заслонка отодвигается. Не обращая внимания на бурчание гардеробщицы, сую в окошко куртку и получаю номерок. Неужто пронесло?
Однако я так разнервничалась, что промахиваюсь мимо кармашка сумки, и номерок с тихим стуком падает на каменный пол. Я приседаю, тяну к нему руку и… не успеваю. На белый пластиковый кружок с цифрой 177 наступает Исаев.
***
Я, вздрогнув, отдёргиваю руку, едва не коснувшись его кед. Смотрю испуганно снизу вверх. А он, сволочь, смотрит глумливо сверху вниз и даже не думает отойти. Я поднимаюсь, бросаю отчаянный взгляд на гардеробщицу, но той и след простыл.
Нервно облизнув пересохшие губы, произношу:
– Чего тебе?
Голос-предатель дрожит и выдаёт меня с головой. Впрочем, Исаев и так прекрасно знает, что я его боюсь. И знает, что ненавижу. Но это его только веселит. И сейчас смотрит в глаза с кривой улыбочкой, пропустив мою реплику мимо ушей. Смотрит нагло и нагло жует. И попробуй пойми, что у него на уме.
– Мне нужно взять номерок, – говорю я, как будто он сам этого не понимает.
– Бери, – издевательски ухмыляется он, но не сдвигается с места.
– Ты на нём стоишь, – сообщаю я очевидное.
– Вот незадача, – забавляется он.
Я нервничаю всё сильнее и одновременно злюсь. Бесит Исаев! Бесит его самодовольная ухмылка, его манера говорить с растяжкой, будто нехотя, его смазливое лицо. Наизусть уже выучила его черты: тёмные брови, одна с еле заметным изломом у виска из-за небольшого шрама. Длиннющие ресницы, которые кажутся ещё длиннее и гуще, когда он насмешливо подщуривает глаза. У него очень короткая стрижка, но спереди, надо лбом, темно-русые вихры чуть длиннее и стоят торчком, будто он такой лихой и небрежный, но, догадываюсь, эту небрежность Исаев сам старательно укладывает. Ну то есть – ставит. А глаза у него темно-карие, как горький шоколад. Но в глаза я редко ему смотрю, не могу, не по себе становится.
И сейчас почти сразу опускаю взгляд. Не знаю, что сказать. Ведь что ему ни скажи – он только поизгаляется.
И что теперь? Уйти на урок без номерка? Но как потом забирать одежду? Противная мегера-гардеробщица черта с два ее отдаст. Ещё хуже – если Исаев сам возьмет. Тогда с пуховиком можно попрощаться. Он уже проворачивал подобное с моей ветровкой этой осенью. Теперь светло-серая ткань на спине изуродована гадкой надписью, которую ни отстирать, ни вывести. Жалко куртку, запрятанную глубоко на антресолях, чтобы мама не нашла. Нормальных вещей у меня и так почти нет. Так что единственным пуховиком я жертвовать не собираюсь.
Тогда что делать? Оттолкнуть Исаева? Вряд ли получится. Он, может, и не качок, но высокий, спортивный и довольно крепкий. Уж точно здоровее меня в разы. Попросить? Только человеческих слов этот подонок не понимает.
И всё же я прошу:
– Отойди, пожалуйста.
Исаев выгибает бровь надломленной дугой, и шрам становится заметнее.
– Проси лучше, Стоянова. Душевнее.
– Андрей, пожалуйста, убери ногу, – через силу произношу я, глядя вниз, на ненавистные красные конверсы.
Он снова самодовольно ухмыляется и сдвигает ногу в сторону совсем чуть-чуть, так, что номерок лежит между его кедами, у самой подошвы.
Вот же мудак!
Я, стремительно краснея, быстро приседаю, подбираю злосчастный номерок, но встать не успеваю. Исаев внезапно хватает меня за волосы, сгребает их на затылке в кулак и грубо, очень грубо, оттягивает вниз так, что я волей-неволей поднимаю к нему лицо. Мне больно и страшно. А ещё очень унизительно это – сидеть на корточках у его ног.
Я хочу встать, пытаюсь как-нибудь вывернуться, отчаянно луплю по его коленям, по руке, царапаю пальцы, но он лишь жестче сжимает волосы, не давая приподняться.
– Я всё знаю, – вдруг наклоняется он и цедит мне в лицо без тени насмешки.
В потемневших глазах горит даже не злость – лютое бешенство. Он сейчас так меня ненавидит, что я физически это чувствую.
Исаев всегда ко мне цеплялся, почти с самого начала, как я пришла в эту школу. Правда, первое время мне казалось, что я ему нравлюсь. Вот же дура…
Однако я до сих пор не понимаю, за что он так меня невзлюбил. Откуда такая неприязнь? Только потому, что новенькая? Ведь я ровным счетом ничего плохого ему не сделала.
Ну а сейчас это не просто неприязнь, а настоящая ненависть. Она как радиация – невидимая, неосязаемая, но смертоносная.
Но с чего вдруг? И что он знает?
Я не понимаю Исаева, однако это «знаю всё» тотчас вгоняет меня почти в панику. Мне есть что скрывать, только при чем тут он?
– Я знаю, что это была ты, тварь. Думала, никто не узнает? Ну, считай, напросилась…
Его рот, да и вообще всё лицо, презрительно кривится, будто смотрит на кучу гниющего зловонного мусора. Никогда не видела его таким… жутким. Даже вырываться перестала. За что он так? В чем я виновата?
Мысли путаются. Веки щиплет от подступивших слез. Кожа под волосами уже горит, но этот урод не ослабляет хватку. А самое обидное, что я абсолютно не догадываюсь, о чем он, но так напугана и шокирована его неожиданной выходкой и непонятной яростью, что слова вымолвить не получается. Даже перестаю отбиваться. Только бессмысленно хлопаю глазами, в ужасе на него таращась.
– Оу, Андрюха, – вдруг слышу за спиной: – Чем это вы тут занимаетесь?
Я тотчас узнаю голос Кривошеина из параллельного и делаю резкий рывок, пытаясь вскочить, но тут Исаев разжимает кулак, выпуская волосы, и сам меня отталкивает.
– Пошла на хрен, – выплевывает он зло, а я, теряя равновесие, едва не заваливаюсь набок, но в последнюю секунду успеваю отставить руку и опереться о пол.
Наконец встаю. Перед глазами всё плывет, по щекам струятся слезы, в ушах бухает пульс. Схватив сумку, я опрометью вылетаю из гардероба под глумливый смех Кривошеина.
– Ну ты, Андрюха, жжешь. А чего злой такой? Обломал я вас, что ли? Ну, сорян.
– Завали, а, – огрызается Исаев.
А больше я ничего не слышу. Бегу прочь, уже и не пытаясь сдержать плач. Мало того, что этот подонок меня унизил и обвинил черт знает в чем, так еще и тупой пошляк Кривошеин всё извратил на свой лад, а это чревато новыми сплетнями. Проклятая школа!
Я врываюсь в уборную, выстуженную и пропахшую хлоркой. Закрашенное белой краской окно распахнуто, а подоконник уже успело немного припорошить снегом. Но я не чувствую холода, хоть меня и знобит.
Хорошо ещё, что тут нет никого. Не хочу, чтобы меня видели зареванной. Не хочу давать лишний повод для насмешек. О том, чтобы пойти на урок, и речи быть не может. Куда я в таком виде?
За прогул мне, конечно, влетит от классной по полной программе, я и так на плохом счету. А в ее личном списке худших учеников я наверняка на почетном первом месте.
Не скажу, что совсем уж без причины – характер у меня все же так себе, ну и язык иногда стоило бы поменьше распускать, но и она – редкостная стерва.
Кто сказал, что молоденькие училки добрые и понимающие? Вранье. Вероника Владленовна – самая молодая среди учителей, в прошлом году закончила пед, но такой злобной дуры ещё поискать. А главное, у неё сплошь двойные стандарты.
Например, эта лицемерка многое спускает тому же Исаеву, на его выходки смотрит сквозь пальцы и флиртует с ним так, что стыдно становится.
С другими парнями из класса Вероника Владленовна не так мила и кокетлива, как с Исаевым, но тоже вполне благосклонна. Ну а со мной она прямо как настоятельница монастыря – толкает правильные речи с видом скорбной добродетели и чуть что – устраивает мне показательную порку. У нас с ней взаимная антипатия.
Но сейчас плевать на неё. Меня больше тревожат угрозы Исаева. Потому что это его «напросилась» прозвучало как самая настоящая угроза. Только вот куда уж хуже. Он и так превратил мою жизнь в кромешный ад…
Кое-как я приглаживаю растрепанные волосы и на всякий случай запираюсь в кабинке. Минуту-другую ещё всхлипываю, шмыгая носом и подбирая слезы рукавом, и постепенно успокаиваюсь.
Сказал бы мне кто-нибудь полгода назад, что я, Даша Стоянова, по признанию бывшего одноклассника, самая популярная и симпатичная девчонка зареченской средней школы, стану изгоем… да я бы решила, что у человека фантазии на грани бреда. Я бы попросту расхохоталась. Там, в Зареченске, парни за мной бегали, а я ещё нос воротила. Да и девчонки набивались в подруги… А здесь я – пария. Аутсайдер. Изгой.
А самое поразительное и самое ужасное, что за эти четыре месяца я почти привыкла. Почти не реагирую на насмешки и издевки. В душе, конечно, больно, но уже не хочется, как вначале, умереть от горя. Хочется просто, чтобы скорее всё закончилось.
Хотя сейчас мне дурно, очень. Голова идет кругом, а к горлу волнами подкатывает тошнота. От сегодняшней жуткой выходки Исаева откровенно страшно – как бы по-скотски он себя со мной ни вел прежде, но хотя бы руки не распускал и не угрожал. Что на него нашло – я не знаю, но он явно не шутил.
Ну а от гадких намеков Кривошеина попросту мутит. Только бы не поползли новые сплетни и не дошли до матери!
Смешно, но я до сих пор переживаю, как бы мама не расстроилась. А ведь это она виновата во всем, что с нами случилось. Она одна! Из-за неё вся наша жизнь четыре месяца назад рухнула, разлетелась вдребезги. И я осталась без отца, без дома, без друзей, без всего, что знала и любила…
2
Даша
Четыре месяца назад. Конец августа. Зареченск
В последний день августа солнце жарило, как в июле, но к вечеру резко и неуютно потянуло осенней прохладой.
Мы убивали время на берегу водохранилища. Парни курили, глушили энергетик и наперебой рассказывали всякие дикие истории типа из жизни, про себя или знакомых, но, по ходу, вычитанные из интернета. Потому что лично меня не покидало ощущение, что где-то подобное уже было. Да и, простите, в нашем Зареченске ничего никогда не происходит. Все ведь друг друга знают. И самые громкие события у нас – это если кто-то родил, умер или подрался. Больше ничего. А парней послушать – так у нас прямо сплошной блокбастер.
Но Нелька, подруга моя, охала, ахала, смеялась, в общем, за нас обеих выдавала ту реакцию, которую ждали. Я же умирала со скуки. Особенно Денис Мясников вгонял меня в тоску. Он, хоть и единственный не развлекал нас с Нелькой трешачком, но зато неотрывно пялился на меня с видом побитой собаки. Даже когда стемнело, я явственно ощущала на себе его взгляд.
Мясников запал на меня, кажется, классе в восьмом. Или в седьмом? Сначала мне это льстило, немного и недолго. Потом стало утомлять, раздражать, бесить, короче, по нарастающей.
Знаю, так говорить нехорошо или даже жестоко, знаю, что чужие чувства надо уважать, но это выше моих сил. Слава богу, он особо не пристает, но буквально по пятам ходит, как тень, и смотрит-смотрит, брр… Одно время в прошлом году перестал за мной таскаться, но лишь потому, что я встречалась с Валеркой Князевым. А как только мы с Валеркой разбежались, так снова за старое.
Нелька вечно повторяет: «Ах, Дэн тебя любит-обожает! Меня бы кто так преданно любил!».
А у меня от его преданной любви, от этих собачьих просительных взглядов во рту сводит, как от кислятины.
И так меня всё это достало, что я Мясникову однажды прямо высказала, что ничего ему не светит. И что? Вообще ничего не изменилось. Всё равно ходит, смотрит, вздыхает.
Я, как могу, стараюсь его избегать. И сегодня, когда парни из нашего класса позвали нас с Нелькой на водохранилище, я спросила, будет ли Мясников. Не будет, пообещали. И вот он, пожалуйста, сидит, гипнотизирует.
Сто раз пожалела, что пошла с ними. Домой, что ли, вернуться?
Правда, дома тоже сейчас не всё гладко. То есть совсем плохо. Не знаю, что у родителей вдруг стряслось – они мне ничего не говорят, но там явно не просто ссора. Что-то серьезное, судя по тому, что на отце второй день лица нет, а мать утром выглядела так, будто всю ночь прорыдала.
– Да у всех предки ссорятся, – заверила Нелька, когда я с ней поделилась переживаниями. – Это нормально. Мои вон собачатся чуть ли не каждый день.
Может, Нелька отчасти и права. У половины одноклассников родители вообще развелись. Но мои не такие. Отец с матери вечно пылинки сдувал. Если сам не на смене, поджидал её с работы у школы, хотя до нашего дома идти пять минут черепашьим шагом. За ужином всегда расспрашивал: как класс, как уроки, как ученики, не расстраивают ли её. Мать у меня ведет инглиш в начальных классах.
Пока она пишет планы или проверяет тетради, отец не включает телевизор, даже если там показывают футбол, и по квартире ходит чуть не на цыпочках. А уж если она приляжет вздремнуть, то жизнь в нашем доме вообще останавливается. Да они не ссорились никогда, сколько я себя помню!
И тут такое… Раньше, если б мать заплакала, у отца инфаркт миокарда, наверное, случился бы, а сегодня утром он просто сидел и молчал на кухне с каменным лицом. И даже не смотрел на мать, на её зареванное лицо, на красные опухшие глаза. По-моему, он так и ушёл на работу, не притронувшись к еде, не сказав ни слова.
Я потом пыталась у матери разузнать, но без толку. И позже, когда наши позвали на водохранилище, она отпустила меня без единого вопроса. А обычно – ну просто шагу ступить невозможно, даже из дома не выйдешь, пока она не выспросит подробно: куда иду, с кем, насколько, кому звонить, где искать и всё такое.
Вообще-то меня всегда бесили эти её вечные причитания и квохтанья, эта чрезмерная опека и постоянный контроль, но сегодня аж как-то не по себе стало. Как будто мать подменили. Наверное, в тот момент я и поняла – в нашей семье беда. Ну или что-то очень-очень плохое.
И главное, что делать – непонятно. Отец ушёл, мать замкнулась наглухо и молчит, слова из неё не вытянешь.
– Неохота завтра на линейку, да? – ласково спросила Нелька у Пашки Широкова – он ей с девятого класса нравился. Она всё хотела с ним замутить, вечно пыталась завязать разговор, звала куда-нибудь, но Пашка тормозил. И даже сейчас ответили все, кроме него.
– Угу, капец как неохота.
– Да вообще. Чё там делать? На этом утреннике.
– Ну как чё? Гусева слушать. Он там, поди, уже заготовил спич и отрепетировал. Завтра двинет, коротенько, часа на три…
Парни вместе с Нелькой хохотнули. Гусев – это наш директор, и он правда любит выступать подолгу.
– Да лааан, последняя линейка, можно и сходить, чё.
– А ты, Даш, пойдешь? – вдруг спросил меня Широков.
– Конечно, – отозвалась я без особого энтузиазма. – Куда я денусь?
Когда Широков заговаривает со мной при Нельке, мне всегда становится неловко. Она хоть и не подает виду, но, мне кажется, ей это неприятно. Вот и сейчас она сразу же слишком громко и нарочито засмеялась, когда кто-то из парней добавил:
– С подводной лодки.
От реки повеяло холодом, и я зябко поежилась. И тут же Мясников сдернул с себя олимпийку и накинул мне на плечи.
– Спасибо, – пробормотала я, подавив порыв немедленно её снять и вернуть хозяину. Как бы Мясников меня ни допекал, унижать его при одноклассниках не хотелось. Они и так над ним все время за глаза посмеиваются. Да и в глаза не стесняются.
Нелька повернулась ко мне. В темноте едва угадывались её черты, но я и так знала, что она многозначительно улыбнулась, мол, видишь, какой Денис хороший, какой заботливый.
Разошлись по домам мы в начале двенадцатого. До центрального перекрестка брели все вместе, но затем все сворачивали направо, в частный сектор, а нам с Нелькой надо было налево, к кирпичным двухэтажкам. Мы с ней жили в соседних домах. Однако она вдруг заявила, что пойдет сегодня к бабушке и останется у неё. Наверняка из-за Широкова, потому что бабку свою Нелька на дух не выносила.
Я, конечно, и одна могла добежать до наших домов, не в первый раз, дорогу уже наизусть знаю. И темноты не боюсь. Да и кого бояться в Зареченске? Просто не понравилось мне, что она вот так меня как бы бросила. Вместе же пошли гулять. Но затем она отмочила ещё похлеще:
– Прости, Дашуль, – елейным голосом заворковала Нелька, почувствовав, что я сержусь. – Сразу не сказала, что я потом к бабке. Просто из головы напрочь вылетело. Но тебя вон Дэн проводит. Да, Дэн? Проводишь Дашу?
– Я и одна дойду, – поспешно выпалила я, но Мясников уже пристроился рядом.
Большую часть пути мы шли в полном молчании, тяжелом и неуютном. Мысленно я крыла Нельку распоследними словами. Удружила, ничего не скажешь. И ведь знает же, что я Мясникова на дух не выношу, что избегаю его всячески – и так мне подгадила. Не ожидала я от неё такой подставы.
Мы пересекли железнодорожные пути. Мясников подал мне руку, но я, проигнорировав его жест, сбежала с насыпи сама и прибавила шагу, хотя мы и так шли в темпе. Может, со стороны я и веду себя с ним как стерва, так, во всяком случае, Нелька не раз заявляла, но, как по мне, лучше сразу пресекать все поползновения на корню, чем щадить, бояться обидеть и давать напрасные надежды. Если затянешь – в итоге всем хуже будет. А так – обрубил в зародыше и никаких иллюзий. Хотя с Мясниковым это не очень-то работает.
Я уже видела сквозь ветки тополей желтые окна своего дома, когда из кустов акации выскочила собака и с лаем кинулась на нас. Так внезапно, что я взвизгнула и схватила Мясникова за локоть. На инстинктах, разумеется. Почти сразу опомнилась и отцепилась, но, на всякий случай, держалась рядом, пока он отгонял собаку.
– А ну пошла! – цыкнул Денис, затем резко наклонился, притворившись, что подбирает с земли камень.
Собака отскочила, а вскоре и вовсе убежала. И тут он, совершенно неожиданно, приобнял меня за плечи, пробормотав: «Всё, всё». Я тихо охнула от такой наглости – Мясников прежде таких вольностей себе не позволял. И только вознамерилась отбросить его руку и разъяснить ему, что нечего меня лапать, как он вдруг притиснул меня к себе и обнял крепко. Я дернулась, попыталась оттолкнуть его, но не тут-то было.
– Дэн! Ты совсем сдурел? Отпусти меня! – верещала я, стараясь вывернуться. – Руки убери, сказала!
Но Мясников, похоже, и правда сошел с ума. Вместо того, чтобы разжать объятья, он стиснул меня так, что, казалось, кости хрустнули. А потом… потом начал меня целовать. Неумело, торопливо, неприятно. Даже противно. Елозил мокрым ртом по моим губам. Бестолково и настырно тыкался языком, но я сжала и зубы, и губы так, что у меня челюсти заныли от напряжения. При этом неустанно колотила его по спине и бокам, пока до меня не дошло, что ему мои трепыхания как мертвому припарки. Тогда на миг затихла и расслабилась, а в следующую секунду впилась зубами ему в губу. Мясников взвыл и наконец выпустил меня. Я, недолго думая, рванула бегом в сторону нашей двухэтажки. Впрочем, Мясников за мной не гнался, но я все равно не могла остановиться, пока не добежала до подъезда. Только тогда смогла перевести дух. Во рту до сих пор стоял металлический привкус крови, хоть я и сто раз сплюнула. Противно, гадко, мерзко!
Дома стояла гробовая тишина, зато свет горел везде, где можно.
– Мам! Я дома, – крикнула я из прихожей, но она не отозвалась…
3
Я скинула кеды и только тут увидела, что на мне олимпийка Мясникова. Её я сдернула так, словно она на мне горела. Потом устремилась в ванную, вымыла лицо, почистила зубы. И всё равно гадкое ощущение осталось на коже, на губах. Фу. Казалось, в жизни больше не смогу ни с кем поцеловаться. А Нельке, решила я, завтра всё это припомню.
Маму я нашла в большой комнате, которая одновременно была и родительской спальней. Вторая комната – маленькая – моя территория. Туда без разрешения входить никому нельзя. Правда, мать нередко вероломно нарушала мои личные границы. Пока меня нет дома, могла обшарить все шкафы и полки, перерыть вещи, влезть в мой компьютер, почитать переписку. Пока я мылась в душе – обхлопать карманы, перетряхнуть сумку, проверить телефон.
Сколько из-за этого мы с ней ссорились! А всё равно она регулярно устраивает шмон. У неё бзик на тему, как бы чего не случилось.
Когда я встречалась с Валеркой Князевым, она буквально изводила брюзжанием: «Им всем только одно нужно – залезть под юбку. Говорит, что любит? Вранье! Они что угодно скажут, лишь бы своего добиться. Он тебя поматросит и бросит…»
Когда мы разбежались, она нудила: вот видишь! Что у вас было? Не ври мне!.. Сто раз ей повторила: ничего! Бесполезно. Успокоилась она только, когда притащила меня к гинекологу, и та её заверила, что я… в общем, ни разу ни с кем. Терпеть не могу слово девственница, дурацкое слово, высокопарное и нафталиновое. Но в материном стиле. За тот унизительный осмотр я с ней две недели не разговаривала, и она даже не понимала. Отец понимал, а она нет. Говорила ему: а что такого?
А уж как она сходила с ума с этим «синим китом»! Заставила снести свой акк в контакте, потом вообще решила, наверное, чего морочиться? И запретила интернет. В школе почти на каждой перемене к нам в класс поднималась. Встанет порой в дверях, постоит, посмотрит. И никак ей не объяснишь, что она позорит меня перед одноклассниками. Что если б я даже захотела что-нибудь такое учинить, то вряд ли стала бы это делать при всех, между уроками. Дома в тот период тоже гайки закрутила не по-детски. Не позволяла закрываться на защелку в ванной, а в мою комнату дверь вообще всегда должна была быть нараспашку. Я бесилась страшно, даже мысль удрать из дома приходила на ум. Не знаю, чем бы закончился этот дурдом, но вмешался отец. Обычно он её заскоки принимал спокойно, потворствовал ей во всём, но тут твердо встал на мою сторону. Сказал ей: «Ты или сломаешь Дашку, или испортишь в конец отношения. А я не хочу потерять дочь». Мать, конечно, спорила с ним, но уступила. Ослабила немного вожжи.













