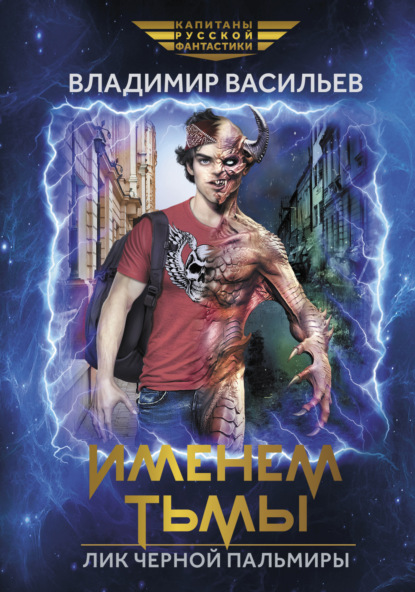Полная версия
Майская ночь, или Утопленницы
– Ты, знай, слухай… – отвлек меня плод народного (да и моего, надо полагать) воображения. – Смотрить атаман Ураков мигучим своим глазом – и все смыслит. «Ох, – толкует, – и шельмец ты, Стенька… А ну кажи, чаво у тя там в балаганушке!» Ай, думаю, худо дело… Возвернулись в стан, слезли в яму. Глядь: нет головы! Плат на месте, а головы нету. Укатилась, видать, – почуяла…
Я, каюсь, слушал его вполуха – не до того было. Обездвиженный, почти парализованный, сидел и думал об одном: как бы невзначай не шевельнуться. Змеюки, кстати, оказались тяжеленные. Осторожно переместил барахло с колен под мышку – вдруг капнет на них, побеспокоит…
А старик, увлекшись, продолжал:
– Засмурел атаман. «То-то, – кумекает, – личико ейное знакомо показалось… Да уж, угораздило тя таку перву встречу сыскать… А плат-то чаво ж забыл? Голову прикопал, а плат забыл! Вернется ведь за платом… Ох, Стенька-Стенька! Натерписси ты от энтих баб…» Мудер был – ровно в воду глядел…
Глава 2. Волкодир
Чуть погодя оба гада вроде бы придремали. Расслабился пестрый узел на правой ступне, потом и черный на левой. Бережно одну за другой высвободил я нижние конечности, встал. Босиком ступая по насквозь пропыленному ковру (вызволить шлепанцы не удалось), перенес свою плаху поближе к Стенькиной. Пальцы на ногах успели онеметь.
– Да ты одежонку-то свою развесь поди, – посоветовал хозяин. – Чаво жмешь! Нехай сохнеть…
Я огляделся. Бельевых веревок в пещерке, понятное дело, не водилось. Пристроил бермуды и футболку на подвешенный к потолку бочонок, предварительно мазнув его пальцем, не марается ли, а сам вернулся к неугасимому костерку, где был застигнут весьма неприятной догадкой.
Да уж не белая ли у меня горячка? Кто-то допивается до чертиков, а я вот до Стеньки Разина…
Даже дыхание пресеклось.
Нет, чепуха! Сколько мы там приняли на даче? Бутылку на двоих?
Заставил себя резко вдохнуть и обратил внимание, что владелец пещерки поглядывает на меня с веселым любопытством. Следовало хоть что-то сказать.
– Степан Тимофеевич, – брякнул я наудачу. – А может, ну его на фиг, этот ваш казачий говор? Гутарь энту вашу… Прореживайте ее хотя бы… Я ж слышу: вы и литературной речью прекрасно владеете…
И нечаянно попал, видать, в точку. В вавилонском смешении диалектов нет-нет, а проскакивали вполне себе книжные обороты. Байки-то про Стеньку Разина все слагали: и грамотные, и неграмотные…
Кажется, опять обидел. Фыркнул старик, надулся.
– По-писаному желашь? Ну давай по-писаному…
* * *Подобно большинству душегубов, строителем Стенька был неважнецким. Персональная землянка его представляла собой так называемый холодный шиш – просто яма, укрытая жердями и плетнем, а сверху – земляной намет. Копал ее Стенька, припеваючи: «Ай, пороем, братцы, ямушки… Ай, поделаем балаганушки…»
В дождь там лило чуть ли не пуще, чем снаружи, еще и с грязью (а вот не припевки играть надо было, а шиш земляной повыше нагрести!). Впрочем, в ту пору, когда они с Ураковым слезли внутрь и убедились в отсутствии Настиной головы, деньки над волжским крутым бережком стояли подряд самые что ни на есть солнечные – пологий бугорок над ямой пропекся до звона, да и глинистое донышко подсыхало помаленьку.
– Котел-то – почистить не грех… – не зная уже, к чему придраться, проворчал напоследок атаман – и вылез вон.
Молодой разбойничек хмуро посмотрел ему вослед и, присев со вздохом на кошму, подтянул поближе вместительный медный казан. Чистил, а сам разглядывал три земляные ступеньки, смекая, как же это она сподобилась по ним вскатиться. Скакала, что ли, с одной на другую?
Разумеется, Стеньке и в голову не могло прийти, чем отзовется его пригорелая каша в двадцать первом столетии, когда внезапно оказаченные особи превратят «кашевара» в «кошевара» (того же, считай, кошевого), а закопченный казан его станет символом единства и удали новоявленных станичников. Так и будут молвить: Казачий Вар. Или Казачий Котел. Все, дескать, вместе варимся.
– Что, дуралей? – послышалось из того угла, где лежал плат. – Думал, умней Уракова?
Вздрогнул, обернулся. Вход в землянку был достаточно широк – и дневного света вполне хватало, чтобы разглядеть все в подробностях. Настина голова смотрела на Стеньку из плата не мигая. Личико – сурово.
Стало быть, никуда не укатывалась – просто из виду пропадала.
– Боись его таперича, – недобро предостерегла она. – Таперича он глаз с тобе не спустит…
– Да и шел бы он лесом!
– Да он-то пойдеть… А с тобой-то чаво?
– Да, може, я и не хочу в атаманы! – взъерепенился Стенька.
Усмехнулась голова.
– Куды ж ты денисси? – ласково-зловеще спросила она. – Думашь, я перва твоя встреча? Энто ты моя перва встреча… – Внезапно девичье личико выразило крайнюю досаду. – Дернуло ж меня связаться! Не мог на разбой другой дорогой пойтить? Да и я тоже… Нянькайся с тобой таперича!
– Вернуть тя, что ли? – осерчав, спросил Стенька.
– А и верни! – последовал ответ. – Завтра пошлеть тобе Ураков на промысел – в три стороны велит ходить, а в четвертую не велит…
– Да он завсегда так!
– А завтра, слышь, как раз в четвертую и ступай. Со мною вместе…
– А тобе куды деть?
– В плат сверни да в котомку сунь.
– А спросит, чаво в котомке?
– А ты ему с котомкой-то не показывайси.
Призадумался Стенька.
– Сабельку точить?
– Точи…
* * *Так оно все наутро и случилось. Разослал Ураков разбойничков в три конца, а четвертый заповедал. «В энту, – говорит, – сторону ни по ногу не шагай!» Стенька, по обыкновению своему, давай перечить, кочевряжиться:
– Чаво енто? Куды хочу, туды иду!
Уставил на него грозный атаман свой мигучий глаз. Чародейский.
– Про Волкодира слыхивал? – вопрошает.
– Не-а…
– Твое счастье, кашевар. А пойдешь в ту сторону – еще и взвидишь, не приведи Господь! Ненадолго, а взвидишь…
– А чаво он?
– Таво! Чуда речная. Броня на ем – как на князе Барятинском, Юрии то есть Никитиче – неразрубная… Как взвидишь – сабельку бросай и сам в пасть к нему лезь! Все меньше хлопот…
* * *Шли рощей и переругивались. Нет, шел-то, понятно, один Стенька – голова барыней в котомке ехала.
– Чаво идем? Волкодиру в пасть?
– Боисси, недовыросток?
– Дык… Боись не боись…
– Вот и не боись!
На ближней раине, натопырив перья, орала горбатая ворона.
– Нишкни, карга! – прикрикнул на нее Стенька. – Ишь!..
Ворона не унималась.
Волкодир… Кто ж он такой, этот Волкодир? Верно, волк какой-нибудь громадный. А почему тогда чуда речная, если волк? Еще и в броне…
Деревья расступились, и очутился Стенька на обрывистом волжском бережку. Глянул – чуть сабельку не выронил. Такое там лежало, что и впрямь оборони Господь! Взять ящерку, приумножить до верблюда хивинского – как раз оно и получится.
– Энто хто?.. Волкодир?..
Голос от страха пропал – один шип остался.
– Коркодил, – буркнули из котомки. – А в Волкодира это его уж ваши волжские переиначили… по недослышке…
– Дохлый, что ль?..
В котомке сердито промолчали.
Откуда-то свалилась все та же отчаянная ворона, явно целясь присесть на серо-зеленый горб недвижного страшилища. Но тут что-то шевельнулось, и Стенька заметил наконец рядом с бугристой и вроде бы замшелой коркодильей башкой саму Настю. Вернее, тулово ее, сидящее на коряге. Скорбно оглаживая одной рукой прижмуренное веко ящера, безголовая отогнала пернатую нечисть. Та шарахнулась, обезумевши.
Сидящая встала и направилась к Стеньке.
Мигом все уразумев, полез кашевар в котомку, достал голову, подал со всем нашим почтением.
Настя приняла ее обеими руками и бережно водрузила на плечи. Обмахнула с шеи следы засохшей крови. Огладила личико, словно бы проверяя, все ли на месте.
– Коркодил… – горестно повторила она. – А было у него еще одно имечко… тайное… Собеказухия. Потому как сам собе указ[1].
Отважился Стенька – тронул эту страсть. Вроде и вправду дохлый.
– Печенези тобе молились, – со слезой продолжала Настя, обращаясь к простертому на траве чудищу, – половцы молились… Татаре Зилантом звали, казаки – Яиком Горынычем… Царство хазарское за грехи утопил, Ростислава-князя под воду утянул… Учугов одних порушил – не счесть… Ни стрела тобе каленая не брала, ни палица железная…
– А чаво ж ен? – опасливо полюбопытствовал Стенька.
– Срок вышел… Годков-то ему, почитай, сколько? Волге с Волховом ровесник…
– А ты-то ему кто?
– Я-то?.. – усмехнулась, приосанилась. – А я вроде как невеста евойная… была.
– А ноне чья?
Вмиг осерчала, глазами пыхнула.
– Ноне – твоя… Чаво мигаешь? Тобе теперь учуги рушить, царства топить…
– Чаво это?
– Таво это! Перва ты моя встреча, чтоб тя об печь да в черепья!
А была та Настя белесая, светлоглазая – иноземного, чуть ли не варяжского подобия. Здешние-то все смуглявые да чернобровые. Оно и понятно! Что цыгане, что казаки – обличье у тех и у других заемное. У цыган – покраденное, у казаков – награбленное. В какую сторону уходили в набег, с той стороны и баб привозили. А хаживали обыкновенно к басурманам.
Вот и батька Стенькин Тимофей Разя фамилию себе привез из Крыма. В смысле – жену. Врала, будто турчанка, на самом деле была татаркой, а глаз имела дурной: на что посмотрит – все спортит. Да и трех сынов таких же выпекла, особливо среднего…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Настя очевидно путает: себекозухия – действительно род крокодилов, но, во-первых, обитали они в Южной Америке, во-вторых, вымерли сорок миллионов лет назад, в-третьих, все были сухопутные.