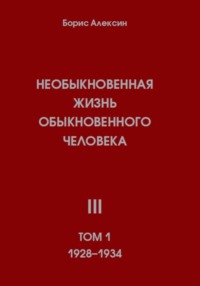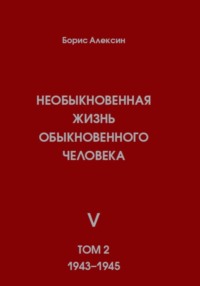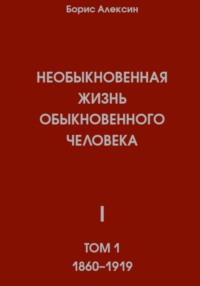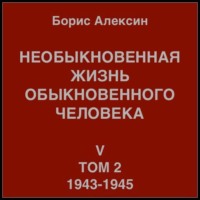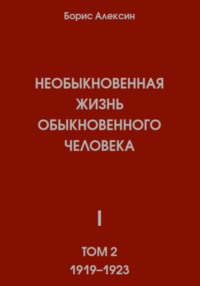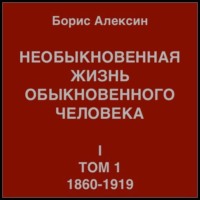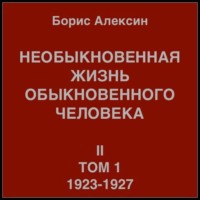Полная версия
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 1
События на фронтах развивались с молниеносной быстротой, обстановка, даже судя по отрывочным газетным сообщениям, становилась всё тревожнее и грознее, а комиссар как в рот воды набрал. Это удивляло, возмущало личный состав батальона, и так как свободного времени пока было много, то вызывало самые различные толки и пересуды.
Через день или два в медсанбат прибыл второй политработник – младший политрук Клименко. Он был из пограничников, служил на какой-то западной заставе. В первые же часы боя получил ранение, был эвакуирован в Москву, где прошёл лечение в госпитале пограничников. Благодаря своей молодости и хорошей физической подготовке, он быстро восстановил силы и уже через две недели запросился обратно на фронт. Из госпиталя его направили во вновь формируемую 65-ю стрелковую дивизию. В политотделе, считаясь с его не полностью зажившей раной, решили назначить его на штатную должность политрука медицинской роты медсанбата.
Клименко был полной противоположностью комиссара: крепко сколоченный невысокий блондин, с отличной военной выправкой, строгими серыми глазами и каким-то особым уменьем быстро сходиться с любым человеком. Он мог расспросить так, что ты незаметно для себя выложишь всё самое сокровенное. Если услышанное Клименко не нравилось, то он делал критические замечания и ненавязчиво, но вместе с тем настойчиво, вкладывал в сознание человека свою точку зрения, незаметно, чуть ли не в корне, меняя его настроение и направление мыслей.
Всё время Клименко был среди людей, знакомил их со сводками, информировал и растолковывал их, делился эпизодами тех первых приграничных боёв, в которых ему довелось участвовать. Его слова, его мнение дышали такой ненавистью к врагу, такой верой в нашу победу, такой верой в непогрешимость Сталина и его соратников, что он невольно заражал всех тех, с кем ему доводилось беседовать. И многие, в том числе и Алёшкин, считали, что комиссаром-то следовало быть ему, а не Барабешкину.
Особенно это мнение укрепилось после того, как однажды, когда над лесом пролетело звено наших самолётов, капитан Барабешкин, выскочив из своей палатки в солдатской каске, привезённой им с собой, стал бегать по расположению медсанбата с криком «воздух, воздух!» и требовать, чтобы были немедленно сняты все белые вещицы, выстиранные и развешанные для просушки по веткам женской половиной батальона, чтобы немедленно все прекратили чтение газет и книг, так как белая бумага демаскирует расположение части. Он требовал ещё и ещё чего-то, как-то бестолково, сердито и грубо крича. Но самолёты улетели, Барабешкин убежал в свою палатку, а все недоумённо переглядывались и смущённо улыбались. Люди сразу же изменили прозвище комиссара. Оно было, как и все, вышедшие из-под острого языка Льва Давыдовича, метким: комиссар-воздухокричальник.
Вслед за командиром и комиссаром медсанбата по служебной лестнице следует штаб батальона, возглавляемый уже известным нам младшим лейтенантом Скуратовым. В штабе было человек восемь разного канцелярского люда, с которыми мы ещё познакомимся поближе по мере развития нашего рассказа.
Следующими, собственно, основными подразделениями медсанбата были две роты. Первая рота – медицинская. Командовать ею был назначен уже известный нам военврач третьего ранга Лев Давыдович Сангородский. Эта рота состояла из двух взводов: операционно-перевязочного и сортировочного. Первым командовал военврач третьего ранга Симоняк. Это был невысокий полнотелый человек лет сорока пяти, с круглой лысой головой, большим животом, на котором никак не мог удержаться ремень. Доктор Симоняк по профессии, как и Сангородский, был урологом, до этого работал в одной из одесских поликлиник, имел уже порядочный стаж врачебной работы, был хорошим знакомым Льва Давыдовича, и, пожалуй, именно поэтому и получил свой пост. В вопросах хирургии вообще, и особенно в военно-полевой, он разбирался очень слабо, о военной службе, как сам он выражался, не имел ни малейшего представления и воинское звание получил в военкомате как окончивший в своё время высшее медицинское учебное заведение.
В этом взводе было три врачебных бригады (отделения), состоявших каждое из двух врачей, трёх медсестёр (из них одна операционная и две перевязочные) и четырёх санитаров. Всего, таким образом, в операционно-перевязочном взводе, кроме командира, было шесть врачей, девять медсестёр и двенадцать санитаров, то есть двадцать семь человек. Одним из этих врачей был назначен Алёшкин, о других врачах и санитарных медсёстрах этого взвода мы расскажем в своё время.
Второй взвод этой роты назывался сортировочным. Начальник санитарной службы дивизии и командир медсанбата не очень-то хорошо представляли себе функции этого взвода, поэтому во главе его поставили первого попавшегося врача, а именно женщину-педиатра из детской поликлиники НКВД доктора Криворучко. Это была чёрненькая, очень худенькая молодая женщина среднего роста, весьма слабого телосложения. Она не имела понятия о том, какая работа её ожидает. По характеру малообщительная, она страдала какой-то манией чистоты и постоянно что-нибудь стирала в маленьком тазике, который взяла с собой из дома. При этом тоненьким, слабым голоском она напевала одну и ту же, видимо, очень полюбившуюся ей популярную песню: «Синенький, скромный платочек…»
В сортировочном взводе, кроме врача-командира, был один фельдшер, он же заместитель командира взвода, три медсестры и шестнадцать санитаров.
Вторая рота носила название госпитальной, она также состояла из двух взводов. Начсандив и командир медсанбата полагали, что если медицинская рота своим операционно-перевязочным взводом оказывает первую помощь раненым и проводит несложные обработки небольших ран тела и конечностей, чтобы обработанные раненые в дальнейшем немедленно эвакуировались, то госпитальная рота должна проводить сложные полостные операции, чтобы этих тяжёлых раненых затем госпитализировать и, дождавшись транспортабельного состояния, эвакуировать. Поэтому начальство выделило в эту роту наиболее опытных врачей, командиром был назначен военврач второго ранга Башкатов, до войны работавший главным хирургом в больнице г. Серпухова. Это был высокий седоусый человек лет 48, выглядевший гораздо старше своего возраста. Башкатов был худ и бледен. Как вскоре выяснилось, он страдал серьёзным заболеванием печени и почек, во время мобилизации ему удалось это скрыть. Башкатов был учеником знаменитого хирурга Сергея Сергеевича Юдина и считался очень опытным хирургом, кичился своими знаниями и опытом, и потому держался особняком. С ним дружила и по возможности ухаживала за ним, так как в личных делах он был совсем беспомощным, одна из врачей его роты, бывшая сослуживица, военврач третьего ранга Ивановская.
Командирами взводов в этой роте были назначены: первого – врач Бегинсон, звания не имевший, до войны работавший акушером-гинекологом в клинике Брауде. Это был опытный гинеколог, неплохо разбиравшийся в полостной хирургии, именно в брюшной полости, но совершенно не знавший травматологии и, тем более, военно- полевой хирургии. Бегинсон, как и врач Симоняк, в армии никогда не служил. Он был с горбатым носом, выпуклыми глазами, большим лбом и чёрными курчавыми волосами. Ему, видимо, было уже порядочно за сорок, но он старался держаться и казаться молодым. Строевой выправки не имел никакой, и в части неряшливости ношения своей военной формы, командирского снаряжения и оружия с ним мог соревноваться, пожалуй, только доктор Симоняк.
Командиром другого взвода была назначена врач без звания Зинаида Николаевна Прокофьева. Это была высокая, статная, белокурая женщина лет тридцати пяти, с большими голубыми глазами немного навыкате и очень симпатичным, приятным выражением лица. Она была опытным терапевтом со стажем уже более десяти лет, до войны работала ассистентом в клинике знаменитого терапевта профессора Вовси, и, как говорили, считалась одной из его любимых учениц. Предполагалось, что она в своём взводе будет выхаживать тяжёлых раненых, оперированных Башкатовым и Бегинсоном. Ивановская была вторым хирургом во взводе Бегинсона, второй врач во взводе Прокофьевой – бывший участковый терапевт московской поликлиники Семёнова.
Кроме всего прочего, Зинаида Николаевна Прокофьева была общительным, интеллигентным человеком и потому быстро подружилась со Львом Давыдовичем Сангородским, Борисом Алёшкиным, Таей Скворец. А Вениамин Соломонович Бегинсон от неё был просто без ума и скоро стал считаться её признанным поклонником.
Следующим крупным подразделением медсанбата была авторота. По штатному расписанию на медсанбат полагалось двадцать четыре автомашины, из них шестнадцать санитарных и восемь грузовых. На каждую из машин было зачислено два шофёра. Авторота состояла из трёх взводов: два автовзвода и третий – из 30 человек обыкновенных бойцов, который нёс охранную службу. Командир автороты – старший техник лейтенант Сапунов имел в своём подчинении трёх командиров взводов, строевых командиров.
Далее в состав медсанбата входили более мелкие подразделения, например, санитарный взвод, обязанный, кроме того, обеспечивать и химзащиту. Командиром его, как мы знаем, был Виктор Иванович Перов. Кроме врачей и двух фельдшеров в его состав входило двадцать два санитара, врачом-химиком была Таисия Никифоровна, врачом-эпидемиологом – Дора Игнатьевна. Хозяйственный взвод с отделениями пищеблока, где было несколько поваров и подсобных рабочих, возглавлял повар Зайцев, работавший до мобилизации в московском ресторане «Савой». В складском подразделении было несколько кладовщиков, аптека с аптечным складом, начальник – лейтенант медицинской службы Панченко был и секретарём партийной ячейки медсанбата. В аптеке работали два фармацевта и четыре санитара. Лабораторно-бактериальным отделением руководила врач Барковская – солидная брюнетка 45 лет, большая шутница и очень опытный лаборант, в её подчинении было две девушки-лаборантки и один санитар. И, наконец, последним, входившим в состав медсанбата, было эвакуационное отделение. Его возглавлял врач-терапевт Долин, единственный из всех врачей, кроме начсандива, член ВКП(б). В его подчинении были четыре фельдшера и до двадцати человек санитаров.
Вот какую мощную организацию представлял в это время отдельный медико-санитарный батальон стрелковой дивизии. К описываемому нами моменту ни Алёшкин, ни его приятели, конечно, всего этого ещё не знали, структуру медсанбата изучили гораздо позже на одном из специальных занятий. Пока же они, их ближайшие товарищи и помощники более или менее познакомились только с составом своего взвода и роты.
Знакомство это началось с обмундирования на вещевом складе дивизионного обменного пункта, куда они отправлялись после распределения. ДОП располагался в помещениях бывшего пионерлагеря примерно в двух километрах от местонахождения медсанбата. На складах обменного пункта всем выдали новенькое летнее обмундирование защитного цвета, две пары нательного белья, две пары портянок, одно полотенце, командирское снаряжение, шинели, сапоги и пилотки. С шинелями произошло немало недоразумений. Многие медсёстры и фельдшеры, да даже и врачи, были такого маленького роста и объёма, что буквально тонули в этих шинелях, даже первого роста. Особенно насмешила всех одна операционная медсестра. Чёрненькая невысокая девушка лет 18, надев такую шинель, совершенно скрылась в ней, как в каком-нибудь огромном тулупе. Из-за воротника, который она подняла, была почти не видна её маленькая стриженая голова, рукава висели сантиметров на 15 длиннее её пальцев, полы волочились по земле, совершенно закрывая ноги. Создавалось полное впечатление, что движется не человек в шинели, а каким-то чудом шинель висит в воздухе и двигается сама. Звали эту девушку Катя Шуйская, и в дальнейшем мы ещё не раз с нею встретимся.
Немало смеха вызвало вообще обмундирование женщин. Дело в том, что в начале войны (видимо, раньше никто из начальства не предполагал, что в армии с первых же дней будут служить не только мужчины) женского обмундирования в строевые стрелковые части почти не давали. Те небольшие запасы его, которые имелись на армейских складах, предназначались для штабов и госпиталей, и поэтому интенданты 65-й дивизии его не получили вовсе. А женщин в дивизии оказалось много, они служили не только в медсанбате и полковых медпунктах, но и в батальонах связи, на полевой почте, на хлебозаводе и в прачечной. Выдать им обмундирование было необходимо, не оставишь же их в платьицах и туфельках, а ведь некоторые в таком именно виде и явились в часть, не взяв с собой, кроме пары белья, ничего. Выход был найден: всем женщинам выдали гимнастёрки и шаровары такие же, как и мужчинам, и нижнее бельё такого же фасона, и пришлось им эти брюки, как их называл старшина Ерофеев, укорачивать да подшивать, так как некоторым они чуть ли не до подбородка доходили. Такая же мука была и с сапогами. Даже самые маленькие размеры кирзовых армейских сапог у многих из женщин-врачей и медсестёр превышали дамские ступни на 3–4 размера, и для того, чтобы сапоги не болтались, приходилось, помимо носков и толстых портянок, напихивать в мыски сапог вату, тряпки и сено.
Обратная картина произошла с Алёшкиным. Он, как мы помним, носил размер обуви 45, да ещё и самый полный по высоте подъёма, и перемеряв пар десять предложенных ему сапог, из которых ни один на ногу не налезал, вынужден был ограничиться ботинками с обмотками. Так, в отличие от других врачей, он и ходил в ботинках и обмотках в течение первых месяцев службы.
Всем выдали противогазы, а мужчинам, кроме того, ещё и личное оружие – пистолет ТТ или револьвер наган, причём оружейный мастер спрашивал каждого получавшего о системе оружия, которое он предпочитает. Большинство врачей о личном оружии имели весьма смутное представление и брали что придётся. Алёшкин также, как и Перов, взял себе новенький ТТ. Глядя на них, выбрал такой же пистолет и Сангородский, но зато Симоняк и Бегинсон почему-то взяли наганы.
После того, как доктор Симоняк облачился в военную форму и, слегка опоясавшись ремнём, нацепил на него кобуру с тяжеленным наганом, ремень съехал ему на бёдра, а кобура с револьвером сдвинулась вперёд и болталась где-то между ног, что доставляло ему страшное неудобство и вызывало почти у всех улыбки, а кое у кого откровенный смех и едкие насмешки. Особенно злорадно насмехался над бедным толстяком Сангородский, язык которого, как все вскоре убедились, был остёр, словно бритва.
Кроме перечисленного, каждый получил плащ-палатку и алюминиевый котелок с крышкой, последняя предназначалась для второго блюда, отчасти заменяя и кружку. Санитарам, кроме того, были выданы сапёрные лопатки в специальных кожаных чехлах, пара подсумков для патронов и трёхлинейная винтовка старого образца. Естественно, что каждому был выдан и вещевой мешок, куда все и постарались запихать полученное бельё, а женщины и кое-какие свои личные «шмутки».
Стояло лето, и ходить в шинелях днём было, конечно, нельзя, а все знали, или, по крайней мере, твёрдо предполагали, что очень скоро дивизия, а с нею и медсанбат, последуют на фронт, и придётся ходить пешком, может быть, довольно долго, значит, шинель надо было сворачивать в скатку и надевать её через плечо так, как это всегда делали бойцы-красноармейцы.
В медсанбате из врачей и среднего медперсонала сворачивать шинели в скатку умели, пожалуй, только Алёшкин и Перов, да старшая операционная сестра медроты Екатерина Васильевна Наумова, поэтому на них и пала тяжёлая обязанность обучить всех медиков этому довольно трудному без привычки делу. Такие занятия никаким планом не предусматривались, учение проходило урывками в каждую свободную минуту и очень многим давалось нелегко. Заниматься скатыванием и раскатыванием шинелей приходилось ежедневно, так как на ночь они служили и постелями, и одеялами, а с утра следовало быть готовыми к походам. Затрудняло скатывание и то, что они были новые, слежавшиеся где-то на складах, и потому сгибавшиеся с трудом.
Но как бы там ни было, к моменту погрузки медсанбата в эшелон умением скатывать шинели овладели все. Правда, у некоторых скатки походили, по выражению старшины Красавина, чёрт знает на что, но только не на скатку, и всё-таки этот неуклюжий свёрток можно было надеть на плечо, а не тащить скомканную шинель на руке.
После получения снаряжения, обмундирования и распределения основных кадров в медсанбате начали проводиться уже кое-какие военные занятия и, прежде всего, как в настоящей военной части, утренние и вечерние поверки. Первая из таких поверок была в тот же день, когда получили обмундирование.
Строились в две шеренги по своим подразделениям. Тут Борис Яковлевич впервые увидел полностью свой операционно-перевязочный взвод, в котором ему предстояло служить. Кроме знакомых ему доктора Дуркова и командира взвода, доктора Симоняка, описанных нами ранее, Борис увидел Розалию Самойловну Крумм, которая возглавляла первое отделение операционного взвода. Это была полная пожилая женщина с добрым лицом и ласковой улыбкой. До призыва она служила в одной из детских больниц г. Одессы в качестве заведующего отделением, и хотя это отделение было хирургическим, сама Розалия Самойловна уже давно операций не делала, а ограничивалась только общим руководством.
Алёшкина назначили командиром второго отделения операционно-перевязочного взвода, а Дуркова – командиром третьего. В каждом отделении полагалось иметь второго врача, операционную сестру, двух перевязочных медсестёр и двоих санитаров. В первом и третьем отделениях вторые врачи уже были (в прошлом – два участковых терапевта), а во втором, Борисовом, пока не было. Остальным медицинским составом операционный взвод укомплектовали полностью. Кроме командира взвода и перечисленных нами отделений, во взводе была ещё старшая операционная сестра, она же и старшая сестра всей медицинской роты. На этой должности находилась уже упоминавшаяся нами Екатерина Васильевна Наумова, имевшая военное звание – младший лейтенант медицинской службы. Кроме неё и командира взвода Симоняка, во всём взводе никто из медицинского персонала воинских званий пока не имел. У Наумовой было около 15 лет стажа работы в одной из московских хирургических клиник. Выяснив специальность Алёшкина, она с удовлетворением воскликнула:
– Слава Богу, ещё хоть один настоящий хирург появился!
Борис, естественно, чтобы не разочаровать её, скромно умолчал о том, что этот «настоящий» хирург имеет всего один год врачебного стажа.
Все остальные медицинские сёстры, операционные и перевязочные, были молоденькими девушками 18–20 лет. И по всему было видно, что не только война, не только военная служба, но и сама медицинская специальность для них была ещё совсем свежей новостью.
Санитары операционно-перевязочного взвода, как и всех других, были построены в отдельную колонну. Их количество пока ещё тоже не было доведено до положенного по штату, но тем не менее они составляли довольно внушительную силу. Беда была в том, что большинство из них в армии ранее не служили, и в течение короткого времени, отведённого на формирование дивизии, им предстояло пройти не только ознакомление с объёмом работы санитара лечебно-хирургического отделения, но и с программой одиночного обучения бойца. Мы говорим именно «ознакомление», потому что обучить кого-либо за такой короткий срок было просто нельзя.
Так подробно и, может быть, немного скучновато рассказать о структуре медсанбата и о людях, первоначально в нём находившихся, мы сочли необходимым для того, чтобы показать, как велико и, пожалуй, неповоротливо было это медицинское учреждение, и как мало оно оказалось подготовлено для сложных и ответственных задач, которые на него возлагала современная война. А ведь медсанбат являлся первым и единственным квалифицированным медицинским учреждением, встречавшим раненого.
Хотелось нам показать и то, как неразумно и непродуманно распределялись медицинские кадры в самом медсанбате. Это, как мы увидим в дальнейшем, принесло массу неудобств и значительно снизило качество работы в первые дни. Теперь понятно, что это явилось не следствием чьего-либо злого умысла, а результатом недостаточной подготовки тех, кто должен был организовывать медицинскую службу ещё перед войной.
Впоследствии мы увидим, как жизнь заставила, быстро заставила произвести перетасовку всех кадров, и в первую очередь врачей, и как каждому из них затем удалось найти именно ту работу, на которую он был способен. Конечно, это произошло не без вмешательства извне.
Более подробная характеристика некоторых работников медсанбата с описаниями их внешности, особенностями характера и поведения вызвана тем, что именно с ними в дальнейшем будет более или менее тесно связана жизнь и деятельность нашего основного героя Бориса Алёшкина.
Кстати сказать, громоздкость и ненужность такого сложного аппарата медсанбатов вскоре поняли и где-то наверху, так как менее чем через три месяца после начала войны штаты медсанбатов значительно сократили. Численность их, в том числе и медсанбата № 24 с 205 человек сократили до 124. Подробнее об этом мы расскажем в дальнейшем. Следует заметить, что и штатное количество личного состава стрелковой дивизии к тому времени значительно сократилось.
Глава четвёртая
Никто в медсанбате не знал, как долго будет формироваться дивизия, но читая газеты и слушая информацию о положении на фронтах, которая передавалась три раза в день из огромного репродуктора, установленного пару дней назад у штаба дивизии, можно было предположить, что формирование будет очень спешным.
Вскоре в медсанбате начались ежедневные занятия, заключались они в следующем. С утра после завтрака и утренней поверки комиссар Барабешкин, а чаще политрук Клименко, читал лекцию о международном положении, пересказывая своими словами содержание последней газеты «Правда», и обстоятельно читал отрывок речи И. В. Сталина от 3 июля, которую он всем предлагал изучить (в его понятии – выучить наизусть). Это занимало часа полтора и называлось политзанятиями. Проводились они на большой поляне, присутствовать должен был весь личный состав медсанбата. Затем в течение двух часов все занимались строевой подготовкой, врачи и средний медперсонал – отдельно от санитаров и шофёров. После строевых занятий повзводно читали (изучали) Устав внутренней службы или Боевой устав пехоты, и, наконец, заканчивались занятия изучением личного оружия или противогаза. Это повторялось каждый день. Никто не учил ни санитаров, ни медсестёр, ни врачей, как им нужно вести себя во время военной работы медсанбата, что следует делать для развёртывания его перед боем, как должны работать отдельные подразделения. Может быть, и действительно всех этих неподготовленных людей следовало сначала обучить основам военной службы, а уже потом заняться обучением по специальности, но, как мы увидим далее, времени на это уже не хватило, и учиться пришлось всем во время боевой работы, что не могло не отразиться на её качестве.
Дни в занятиях проходили быстро и одинаково. Единственным разнообразием было дежурство на дивизионном медпункте, куда ежедневно направлялось из медсанбата трое врачей, которые не столько занимались лечением больных, сколько участвовали в комиссии, принимавшей беспрерывно поступавшее в дивизию пополнение рядового состава. Когда дежурил Борис, он невольно сравнивал эту работу с той, которую ему пришлось проводить в первые дни войны в райвоенкомате. Там даже небольшое заболевание, сравнительно незначительные дефекты развития или последствие травм (несмотря на горячие просьбы многих, старавшихся любым способом скрыть свои болезни) служили основанием для браковки призываемого и отправления его домой.
Здесь же большинство явившихся были лица среднего, а иногда даже и старшего возраста. Многие из них страдали довольно выраженными хроническими заболеваниями. Председатель медицинской комиссии, начальник санитарной дивизии Исаченко на замечания врачей внимания почти не обращал, и, выслушав их, обычно заявлял:
– Ничего, ещё послужит, пошлём его в связисты, или на хлебозавод, или ещё куда-нибудь.
Врачи, в том числе и Борис, первое время недоумевали, но потом, обсудив друг с другом, а, главное, послушав политрука Клименко, пришли к выводу, что, видимо, в резервах у нас уже ощущается определённая нехватка.
Как уже говорилось, подавляющее большинство рядового состава дивизии были люди или совсем до этого не служившие в армии, или служившие более десятка лет тому назад, да и то только в территориальных частях, и, следовательно, военного дела почти не знавшие. А с новыми видами оружия – миномётами, автоматами, новыми скорострельными десятизарядными винтовками и даже с ручными дегтярёвскими пулемётами вовсе не знакомые.
На долю командного состава дивизии выпала тяжёлая задача: в течение очень короткого срока обучить бойцов, а многие командиры, служившие до этого в органах НКВД, и сами во всех этих видах оружия разбирались плохо. Так же плохо они разбирались и в тактике ведения современного боя, и поэтому вся тяжесть обучения огромной массы людей пала на те несколько десятков пограничников, которые случайно оказались в числе командиров. Им доставалось здорово, и врачи медсанбата видели, как много сил прилагали молодые энергичные лейтенанты и капитаны, занимаясь и со своими, и с чужими красноармейцами, да ещё и с их командирами, по 12–15 часов ежедневно. Причём многих приходилось учить, начиная с самых азов.