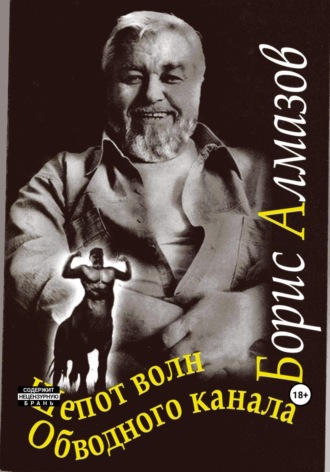
Полная версия
Шепот волн Обводного канала
Любая идея мгновенно подхватывалась и воплощалась. Жарким июнем, в разгар белых ночей явилось мечтание искупаться. Тут же все, как обычно засидевшиеся гости и гостьи отправились к Петропавловке, мимо Летнего сада и Марсова поля. Несмотря на ночное время было светло, как бывает в эту пору. В голубом, свежеполитом асфальте отражался золоченый шпиль Михайловского замка. Над Лебежьей канавкой, за которой в Летнем саду надрывался соловей, в непривычной тишине гремевший трелями, слышными по всем набережным: Фонтанки, Екатерининского канала и Лебяжьей канавки… С Марсова поля в облаках аромата сирени, так же раскатисто и звонко отвечал ему соперник.
– Умереть, не не не встать, – сказал Витька, – Откуда они, сволочи, в центре? Тут же днем не продохнуть от гари… Просто лечь и тихо умереть!…
– Мальчики, – сказала какая-то разумная барышня. – Чего вы на Неву-то претесь? Купайтесь в Фонтанке, или вон в Лебяжьей канавке.
– В Лебяжке мелко, а по Фонтанке дерьмо плывет.
– Как будто Фонтанка в Неву не впадает!
– Т-т-там к-к-к-консистенция другая!
Возбужденные соловьиными трелями и присутствием хорошеньких девушек, мы решили переплыть Неву! Разделись в стеклянном тамбуре Дома ученых архитектора Резанова, который тогда не запирался на ночь. Выбросили девчонкам одежду, поскольку сменных трусов не имели, наказали им идти на Петропавловку, через Троицкий мост, а сами бодро и дружно метнулись в хладные волны.
Желание купаться прошло мгновенно. Стремительное течение упруго поволокло нас на стрелку Васильевского острова и противостоять ему было невозможно. Пловцы мы все пятеро были хорошие. Я тогда плавал в команде аквалангистов и за тренировку «наматывал» в бассейне километров пять, но то в бассейне…С ужасом, я подумал, что частенько встречал в литературе характеристику пловца, (скажем, Рахметова в «Что делать») – «он Волгу переплывал…», но никогда, нигде не читал и не слышал, что кто-то переплывал Неву, да еще в самом широком месте… Обменявшись, по этому поводу соображениями, мы решили повернуть обратно, но не тут то было…Течение волокло нас уже в районе Зимнего дворца и тащило на самую стремнину…
– Н-Н-Н адо за быки под Д-Д-Д Дворцовым мостом цепляться…– присоветовал заводила Витька. Но при одном воспоминании, как летит мимо этих быков вода, возникало сильное сомнение в удаче.
– Похоже – тонем. – сказал самый спокойный среди нас – Судак.
– Надо по течению сплавляться, – предложил Мишка. – Куда – нибудь да вынесет.
– К…к… к.. Петергофу… – мрачно пошутил Витька, – л л ледышки…З-з-замерзаем же…. Сейчас с-с-судорги начнуться.. Ребя, у кого иголка есть? Надо было иголку взять.
– Надо было тебе иголку в язык, когда ты всех подначил, – сказал Мишка
– Хоть в жопу! – сказал Судак, – Теперь без разницы.
Меня разобрал дикий смех. Это было нервное. Поскольку я отчетливо понимал – куда мы влетели. Но вероятно, молодость, литые мышцы и рефлекторная уверенность, что жить еще предстоит вечно, да еще, что нас тут пятеро, как – нибудь выкарабкаемся, помогали держаться. Все было как-то не натурально. Как-то не про нас…
Но как же мы обрадовались трелям милицейского свистка! Какие там соловьи могли пойти в сравнение с его разливами и красотами русской словесности, с которыми два сержанта вытягивали нас на борт катера речной милиции, вылетевшего к нам из под крутого мостика над Зимней канавкой.
– И главное – тверезые! Придурки! – мотал головой сержант, когда набитый нашими голыми телами, катер гнал к Троицкому мосту. – Главное, в чем мать родила. За что багром-то хватать?
Даже находчивый Витька не решился ничего посоветовать нашему спасителю.
А над русалками перил Троицкого моста, плыли, модные тогда, бутоны причесок наших девиц. Они шли совершенно позабыв, о том что только ради их благосклонного внимания, (что и составляет, по мнению Пушкина, «единственную цель наших усилий» ) мы чуть не отправились на тот свет. Они о чем-то увлеченно переговаривались, а одно из них, чуть приотстав, задумчиво вертела над головой, нацепив на палец, чьи-то плавки.
– С-С-С сволочи! – стуча зубами сказал Витька, – хоть бы на нас посмотрели…
– Мы не костюмах, – философски заметил Витя Богуславкий.
– А во сколько бани открываются? – полюбопытствовал у сержанта Судак, поскольку мы были в мазуте…
– А вот как из КПЗ вас выпустят, – сказал сержант, – Так, аккурат, в баню и пойдете. Ежели, конечно, ваши девицы трусы вам возвернут.
Перечень подобных историй можно продолжать бесконечно, но книга о песнях и квартира на Фурманова имела к ним самое прямое отношение. Нас всех объединяла пламенная любовь к пению, и нигде, и никогда я не пел столько, сколько в квартире на Фурманова. Песня объединяла и поющих, и слушающих. Не пели двое: Витька (но зато он был маг и волшебник магнитофона. Однажды, работая ночь на хрипатой Яузе и Астре, мы записали целый хорал, который спели вдвоем с его старшим братом Мишкой. Мишка держал низы, а я все остальное, а потом множили, множили и множили, подпевая голосам на магнитофоне. Получилось сносно. А ведь это было тридцать лет назад…) и Витя Богуславский, который утверждал, что у него нет слуха. Он только молчал и глядел исподлобья, сквозь тяжелые роговые очки и слушал. А пели мы самозабвенно. Часами.
Молва о наших спевках широко распространился в городе, и к нам приходили всякие молодые ребята – студенты – попеть. Некоторые, побывав единожды, больше и не появлялись, а другие приживались. Так появился, проходивший практику в журнале «Звезда» филолог Гришка. Обладателя похожего на плуг горба и хрустального тенора Гришку полюбили, что выражалось в полном пренебрежении к его физическому недостатку и отсутствия, в связи с этим, любых снисхождений. Пришел громадный толстый Игнатов, обладатель бархатного баса, который пел с нами пел, да и ушел в профессиональные певчие в Преображенский собор, что было весьма чревато в обществе строителей коммунизма. Говорят, комсомольские власти взялись его «охмурять и перевоспитывать», кончилось это тем, что Игнатов ушел в монастырь иноком, наверное, по-русской своей душе, делал он все в своей жизни обратно требованиям власть придержащих.
Спевки происходили стихийно. Как правило, они начинались с того, что обнаруживался рубль. На пятьдесят шесть копеек покупалась бутылка вина Айрум или Раздан, но уже за семьдесят две. (Год назад увидел это вино в магазине, кинулся как к глотку юности, отхлебнул – глаза из орбит – такой уксус – совершенно пить нельзя), за шестнадцать копеек – буханка хлеба и на оставшиеся – зельц – «холодец с ноготком» или « стюдень небритый» – в нем попадались клоки шерсти. Угощение было готово. Можно было ждать гостей. Приходили девчонки, приносили целомудренный лимонад. Изготавливался напиток «дуяк» (один к двум), который освежал, не был кислым и пьянил, поскольку алкоголь усваивался вместе с газом.
Или, например, сосед Геннадий по прозвищу «Пизя», (очень был озабочен сохранением Пизанской падающей башни. Дни и ночи о спасении думал – чертежи рисовал), нёс, например, Пизя кусок позеленелого сыра – выбрасывать, в связи с полной пищевой непригодностью, и был перехвачен у самого помойного ведра, Мишкой, который укорил его истреблением продуктов. Пристыженный, он кусок сыра отдал. Поэтому вместо студня и вина были куплены макароны, сварены, посыпаны тертым сыром, политы томатной пастой, посыпаны перцем, поданы под зеленью в тазике на общий стол. На спегетти гости налетели, как мухи, в том числе и Пизя с двумя дочками и трех и семи лет. Естественно, под такую «закусь» было выпито ведра два неизвестно откуда добытого бочкового пива, а уж пето – до утра.
Когда под утро все, кто жил далеко, улеглись, вповалку, спать на полу и тут же засвистели во все дырочки, дверь тихонько отворилась и в светлицу вошел не царь, а мишкин и витькин папаша – командир батальона спецназа, приехавший навестить сыновей. В комнате ступить некуда – спят как беженцы на вокзале.
– Э…– говорит, кто –то папаше, – На окне в тазике макароны. Чай в чайнике. Рубай и ложись к печке, нам часа через два на работу…
В семь утра дикий звон будильника, для громкости поставленный в оцинкованное ведро, и брательники кидаются в объятья, лежащего на полу, на шинели майора.
– Батя приехал!
А вечером майор десантник, сидя на подоконнике, глядел увлажненным глазами на сыновей и хрипловато тянул « бооом…», « бооом…», в коронной нашей распевке «Вечернего звона».
К исполнению Вечернего звона допускались все, но вот приживались – немногие. Он был точным тестом на чистоту души и на созвучие нашей компании. При кажущийся простоте мелодии, он требует не только умения подстраиваться к поющим, но полного слияния в духовной близости, в любви друг к другу, которую словами не высказать.
«Лампопо»
В Ленинград приехал казачий ансамбль песни и пляски. Естественно, как только мы услышали об этом по радио, бабушка извлекла из комода заветный потертый кожаный кошелек, куда ухитрялась откладывать какие-то крохи от своей пенсии, и долго считала, тихо шевеля губами, сколько мы можем истратить на театральные билеты.
Клуб, где должны выступать казаки, находился недалеко от моей музыкальной школы, поэтому мы пошли туда сразу после занятий. До концерта еще оставалось много времени, и бабушка повела меня в буфет. Там она купила два стакана чая и достала бутерброды, завернутые в газету, что привезла из дома. Под брезгливым взглядом буфетчицы, я стеснялся, их есть.
Бабушка строго посмотрела на меня, и я начал обжигаться чаем и давиться булкой с маслом. Бабушка тоже взяла один, как она говорила «для прилику», и перекрестилась, как она всегда делала перед едой и после того, как поела.
Народу в буфете много. К нам подошли два чубатых парня с подносом, и один спросил:
–
Мамочка, можно к вам притулиться?
– Конечно, конечно… – сказала бабушка.
Парни, широкоплечие и белозубые, начали весело уплетать макароны по-флотски. И я сразу понял, что больше всего на свете я люблю такие макароны. Я старался отвести глаза от этой вкусной дымящийся еды и увидел, что за одним из столиков сидят люди в гимнастерках без ремней и синих шароварах с лампасами. Они громко разговаривали и смеялись. Перед ними на тарелке лежали куски тонко нарезанного сала, они клали его на черных хлеб и ели, вероятно, перед этим выпив водки.
– Смотри, смотри, баба – зашептал я, – Смотри!
– Да, вижу, вижу…– сказала бабушка, – Ешь молча. Не кроши.
Парни тоже глянули на тех, что за столиком и переглянулись между собой, как-то странно усмехнулись. А я уже был готов забыть про еду.
– Баба! Ну, посмотри! Это же казаки! Это же наши – донские!
Но бабушка усмехнулась, точно так же странно, как эти парни за нашим столом.
– Нет, – сказала она. – Это не казаки!
– Как же не казаки! Они же в лампасах!
–Вот я сажей вымажусь, разве стану негритянкой?
Парни за столом дружно прыснули.
– Но они же в лампасах!
– Да генералы тоже в лампасах… – сказал один из парней.
– А у этих еще на пятках клетки от лаптей не отошли! – сказал второй.
Бабушка рассмеялась.
–Мама, – сказал парень,– а вы, какой станицы?
Мне странно было слышать, что он мою бабушку называл «мама».
– Преображенской, – сказала бабушка, ласково глядя на ребят.
– Вот мы и глядим, что именно вот внучок у вас беленький. А он – Верхоплавка!
– А вы с Низу?
– Были Кумшацкие. А что – видать?
– Что чубы, что усы… – засмеялась бабушка.– "Цыганы!"
– Во… и прозвищу знаете! «Чуб завил – все девки наши», – засмеялись парни.
– Ну, почему ты думаешь, что это не казаки? – не унимался я.
– Вижу, – сказала бабушка. – Не казаки.
– А кто ж?
–Артисты, – сказал парень. – Артисты, жаль, ты моя, болючая! Так ведь у вас, мама, на Верху гутарят?
– У нас гуторят, – сказала бабушка: – Гутарить начинают от Вешек на Низы.
– Ай-е…– удивился парень, – а я – й не знал.
–Шолохов тоже не знал, а ничего.… Живеть, – сказала бабушка.
Парни переглянулись.
– А как вы здесь?
– Да вот принесло под самую блокаду. А вы, не то учитесь где?
– Студенты.
– И на кого ж?
– Врачи.
– Ну, дай вам, Господь… Прямо вот я на вас порадовалась, как дома побыла.
–А чего ж домой-то не возвернетесь?
– Куда-й то? На кирпичи битые слезы ронить? Ай, да не на что там красоваться, нонь.
–Вот же и то ж…– вздохнули парни: – И наши хутора под водой. Цимлянское водохранилище… Такие виноградники затопили! Лоза в руку толщиной!… А земля какая была – хоть на хлеб мажь…
Ничего я не понимал в их разговоре, кроме того, что говорят они об одном и том же. И удивительно мне было, что говорили они понятные мне слова, а вот о чем, не понять. Но мне хотелось быть с ними вместе, с этими крепкими смугловатыми и чубатыми парнями с темными полосками молодых усов на верхней губе. Хотелось участвовать в этом странном разговоре, потому с ребячьей настырностью, я заладил:
– Ну, почему же вы думаете, что они артисты?
– Ще и плохие! – засмеялись парни. – Были б хорошие, научилися бы сало, как следваить, исть.
– Вот же оно и то ж! – засмеялась, бабушка.
– Лампасы понашили на кальсоны! Хохлы!
– Ну, полно шуметь – ат! – смеялась бабушка, взмахивая, кружевным платочком, какой всегда носила за обшлагом кофточки, – Ай – е услышуть!…
– Ды хай слышуть! Шли бы вон индейцев представлять! Ой-е чувствую вот я, будет счас лампопо…
–Как вы говорите? Лампопо? – смеялась как-то, по-молодому, бабушка.
Мне концерт понравился. Особенно, когда казаки показывали, как ездят, как будто на конях, с пиками, и как они пели: «Каким ты был, таким остался!» И я очень удивился, когда увидел, что в перерыве многие зрители с концерта уходят. И усмехались они так, как моя бабушка и эти парни.
А парни к нам подбежали в вестибюле, уже одетые, в пальто.
– Ну, вот нашли, наконец, а не то мы уж думали – вас потеряли… – сказали они, сдергивая кепки, – Мы – попрощаться.
–А как же концерт? – засмеялась бабушка. – Лампопо – то й, как же?
– Силов нету на такое глядеть…
– Ну, и слава Богу. Наклонитесь.
Оба парня резко наклонились. И моя маленькая бабушка, встав на цыпочки, вдруг, среди толпы, среди чужих людей, нисколько не смущаясь, точно тут никого и не было, поцеловала парней в чубатые головы и широко перекрестила одного и второго.
– Сохрани вас, Бог, деточки мои! – и я услышал слезы в ее голосе.
Парни, блеснув глазами, вдруг стиснули меня, подхватив на руки:
– Ты хоть знаеш, кака у тебе бабушка! На ней вот всё и держится! Давай, расти скореича! Догоняй! – кольнули они меня щетиной усов, – Смотри, казак, сберегай бабушку – то! Доглядай!
Мы ехали домой в разболтанном и дребезжащем трамвае, в нескончаемом коридоре обшарпанных домов, тускло освещенных желтыми фонарями. Бабушка чуть улыбалась, прикрыв глаза.
– А почему вы с этими казаками решили, что артисты сало едят неправильно?
– Как это неправильно, – сказала бабушка, – Мимо рта то, небось, не проносят!
– Ну, не по казачьи!
– А… Не по казачьи…. Да потом у что у них сало ломтями нарезано, а казаки режут сало кубиками. Кусочками такими маленькими. И по кусочку берут.
– Какая разница, как сало нарезано!
– Да есть разница. Казаки то всегда ели прилюдно. Это, милый мой, распоследнее дело в одиночку спрятаться да тайком от товарищей наедаться. Казаки, народ воинский, служивый, никогда в одиночку не ели. Трапезовать садились в кружок, а на общей трапезе, нельзя быть невежей, и есть так, чтобы другим на тебя глядеть было не противно. Слюнявого да гунявого мигом бы из круга наладили! И доедал бы он последки! А сало, положенное в ссыпчину (у русских то говорят – в складчину), могло ведь быть и «с проростями», если к примеру свинья тощая, или следы от синяков. Свиней – то, правильные хозяева, никогда не гоняли, не били, все. бывало, лаской да уговорами. А сало с проростями то враз и не откусишь, когда оно – ломтем! Вот и будешь воевать с куском! А всем на тебя какаво красоваться?! А кусочек взял, не то вилочкой, не то спичкой – палочка такая длинная навроде лучинки, и жуй аккуратно, хоть бы какое оно жесткое! Да хлебушком закусывай.
– Нам в кино на географии показывали, как эскимосы мясо едят: зубами прихватывают и ножиком – вжик, и отрежут маленький кусочек.
– Так, у них носов нет! – засмеялась бабушка, – вот они и «вжик»! А нам-то с нашими горбылями куда! Вжик – и пол носа стесал!
– А у нас дома сало есть? – уж так мне сальца захотелось.
– Да уж поищу, может и отыщется, – прижимая меня к себе, сказала бабушка, – какие ж мы казаки, если у нас сала нет! Слава Богу, не блокада, не голод – и сальца найдем, и хлебушка.
– Я его по-казачьи есть буду.
– Ясное дело. Не по бурлацки! Аккуратно. И к еде уважительно, и чтоб глядеть на тебя другим приятно было! Вот, мол, как мальчик красиво ест, не чавкает, не крошит, полный рот не набивает. За едой – не балует! А то есть такие, что из хлеба шарики катают, да надкусанные куски оставляют! Да с чужой тарелки хватают! Кто ж, после него, есть то не побрезгует?! Стыд, какой!
У нас в школьной столовой мальчишки иной раз и бросаются хлебом, и даже глаз мне подбили, когда я пытался их остановить, и бабушка, словно прочитав мои мысли, сказала:
– Бывает – уронишь кусок хлеба, так надобно его, скорейча, поднять, поцеловать, мол, Господи прости и не лишай меня, пищи. Сказано: «Бросивший кусок хлеба – Тело Христово и Дар Божий – дождется дня, когда будет искать хлеб там, где бросил, и не найдет!» Мы вот тут в блокаду …
– Тебе понравился концерт? – спросил я, чтобы перевести разговор на другое, потому что когда бабушка рассказывала про блокаду, мне всегда хотелось плакать.
–Чему там нравиться7! – улыбнулась бабушка. – Сказано – Лампопо. А съездили хорошо. Как дома побыли.
– А как эти парни догадались, что мы казаки?
–Да у них, что ли глаз нет? Увидали, небось! Стало быть, не навовсе мы тут под общую гребенку обтерлись. Выходит, мы еще живы… Господь нашим грехам, пока еще, терпит.
«Быстры как волны …»
Слава о том, что мы здорово поем и вообще замечательные ребята распространилась по городу. Через комнату по ул. Фурманова 34 прошли толпы гостей, мы всех и не помнили, и перебывали тут люди самые фантастические. И как-то так получилось, что при обилии барышень, даривших нас своими посещениями, при наличии нескольких двоюродных сестер у Витьки и Мишки, внутренних, так сказать, романов не происходило. Разумеется, в ту студенческую пору у нас у всех были романы, но как-то на стороне, и своих дам, мы на Фурманова не приглашали. Здесь было все сориентировано на другое.
Здесь шли бесконечные, умные разговоры, споры и, наконец, происходило пение… Попавшие сюда барышни, вдруг обнаруживали, что, при всем к ним уважении, в этой компании к ним как-то «без интересу». Большинство с этим не могло примириться и нас старались выдернуть из обстановки мужского монастыря. Но поскольку индивидуальные отношения не завязывались еще, то нас вынуждены были приглашать всем хором или, по крайней мере, квартетом : Витька, Мишка, Гришка и я. Но если мы втроем готовы были стать на крыло только при одном звоне ножей, вилок и тарелок и лететь за хорошей выпивкой и домашней закуской хоть на край света не таков был Гришка. Как все горбуны, он был франтом. И вообще был страшно озабочен своей внешностью.
Если мы довольствовались ботинками на резиновом ходу за 8 р. 50 коп., то он носил лодочки за 22 р.– предельную тогда сумму. Если нас не интересовал покрой штанов и ширина брючин, то Гришка носил дудочки, кроме того, в перпендикуляр нашим свитерам и ковбойкам, у него имелся пиджак, и то чего мы не могли позволить себе при любой погоде, страшный дефицит – белая нейлоновая рубашка. Разумеется, галстук до колен, платочек (отрезанный от галстука) в карманчике, парфюм и набриолиненный пробор. Обычно он возглавлял нашу команду, и как мне кажется, даже гордился тем потрясением, которое вызывала его фигура.
Из-под огромных очков он страстно посматривал на барышень и, надо сказать, пользовался успехом более нас. А когда он запевал своим рыдающим серебряным тенором – все внимание было к нему, мы так сказать его только оттеняли. О чем он нам, в мягкой форме, но постоянно напоминал. Как всякий тенор он был мнителен, а как премьер – капризен.
В тот день, когда мы получили приглашение и затрепетали в предвкушении широкой домашней застолицы, он раскапризничился: «Я не хочу, я не могу». Мы убежденные, что «хочет и может, только – сволочь», начали заталкивать его в пиджак. Он отпихивался и упирался и, наконец, придумал: «У меня пиджак мятый! Я не могу позориться!»
– Господи! – сказал рукодельный Витька: – Всего и делов? Айн момент – погладим!
– Как ты его погладишь, придурок! – сказал я ему, – У него пиджак фасонный! По форме тела! Его на гладильной доске не расстелить!
– Еще и лучше! Доску с антресолей не переть! На нем самом и выгладим! Золотые ручки! – сказал Мишка, а Витька уже летел с электроутюгом и мокрым полотенцем.
Гришку облачили в пиджак, накинули на горб мокрое полотенце, поставили утюг, вставили шнур в розетку….. и заговорились…
Вечером прошлого дня, мы «на протырку», с одной контрамаркой на троих, ходили в театр комедии, где смотрели «Физиков» Дюренматта. И естественно, все разговоры были о спектакле. Но не успели мы от уточнения конфликта перейти к блистательной игре Елизаветы Уваровой, как услышали странный звук, переходящий от шипения к визгу. Звук сопровождался дымом и вонью. Мишка ахнул и поднял утюг с гришкиного горба. Завороженно, не смея шевельнуться, мы смотрели, как в прожженную прореху на спине вылезает, словно нос ракеты носителя, выходящей из шахты, белый пузырь , по нему ошметками сползает тающая нейлоновая рубаха и пузырь лопается .
– Чего ты вопишь, Карузо! – пытался утешить Гришку Витька . – Вон у тебя горб меньше стал! Счас, вазелином смажем…. Айн момент!
Мы были тогда большими жизнелюбами, потому что все – таки пошли на званый ужин и там Гришка, стараясь не шевелиться, чтобы не дай Бог, не сдвинуть нашлепку пластыря под свитером, выводил:
«Быстры как волны, дни нашей жизни –
Умрешь – похоронят, как не жил на свете.
Налей, налей, товарищ, заздраваную чару!
Кто знает, кто знает, что ждет нас впереди….»
«Полет Шмуля»
Более оголтелого антисемита, чем Мишка Эпштейн, я в жизни не встречал. Шли шестидесятые. Только начинались все эти истории с отъезжантами и отказниками. Большинство же из нас в этом ничего не понимало, а когда он нам с пеной у рта растолковывал, то очень скоро становилось скучно, поскольку кто какой национальности, тогда всем нам было, наплевать! В огромной Мишкиной комнате, в коммунальной квартире, толклись с утра до ночи дети самых разных народов и нам было диковато слышать все, что нес антисемит Эпштейн. Когда же Витя Богуславский, глядя печально своими еврейскими глазами сквозь тяжелые очки, спросил:
– Скажи нам, Миша, насколько я понимаю, «Эпштейн» – это чисто русская фамилия?
Мишка, вообще, на стену полез и полчаса кричал, что фамилия немецкая, а он – литовец.
В отместку за бестактный вопрос он приволок откуда-то плакат с портретом Антон Палыча Чехова и его словами о том, что «нужно ежедневно выдавливать из себя раба».
– Это! – сказал Мишка Вите Богуславскому. – Специально для тебя!
И красным карандашом зачеркнул слова «раба» и написал «жида», чем наверное сильно удивил Антон Палыча, который, разумеется, при жизни, ничего такого в виду не имел.
Антон Палыч внимательно, с нескрываемым удивлением, присматривался и прислушивался ко всему, что происходило в Мишкиной комнате и я думаю, что пенсе у него с носа не сваливалось, от потрясений, только потому, что было нарисованным.
Мишка был человеком чрезвычайно влюбчивым. Но, как обычно происходит в таких случаях, бесконечные его влюбленности всегда оставались не разделенными. Он слишком круто влюблялся. Барышни шарахались и разбегались кто куда, как пугливые серны, от огромного, страстно пыхтящего, будто паровоз на высокой скорости, обязательно, часами, читающего стихи, Мишки.
Он огорчался, правда быстро утешался, находя новый объект для своих чувств. И опять по ночному городу летела его громадная, почти двухметровая фигура, в развевающимся белом китайском «Дружба» плаще с неизменным букетом цветов, и все никак не мог понять причины своих неудач. Он менял прически и галстуки, увлекал учениц ПТУ в филармонию и в Эрмитаж, но все выстреливало как – то вхолостую.
Но вот однажды он заорал как Архимед, «нашел»! Мы приготовились выслушать очередную выкладку из Фрейда, однако, его находка оказалась проста как топор неандертальца
– Потом от меня, жидовским, воняет! – рубанул он.
Мы, представители титульной нации, так и сели от удивления. И только Витя Богуславский поднял к небу свои библейские глаза, что –то прошептал, вероятно обращаясь к богу Израиля, но вслух ничего нам не поведал. Антон Палыч со стены особенно пристально поглядел сквозь пенсне словно предвидел, что этот свой недостаток Мишка обязательно будет преодолевать каким – нибудь радикальным способом, и не ошибся. Скоро Мишка приволок огромную бутыль формалина. Кто научил его такому методу борьбы с потливостью неизвестно. Я думаю – этого человека давно нет на свете, потому что Мишка до сих пор на свободе.









