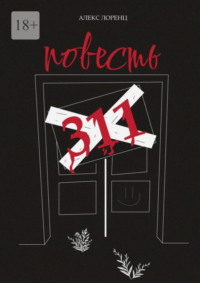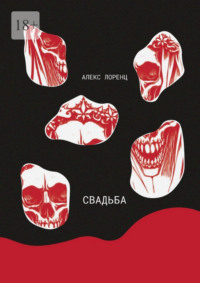Полная версия
Щань. Повесть
Таня стала противна Прохору. И дом ему тоже опротивел. И быт. И незримый четвёртый член семьи – Егорушкина болезнь. Она могла обостриться в любую минуту…
Он нужен дома. Нужен не этой гадине, а сыну.
Гадине? Неужели он теперь только так будет думать о ней? А если она в сердцах сморозила глупость, но ничего такого на самом деле не подразумевала?..
Он просто сказал: уезжаю, мол, на рыбалку на все выходные; раньше вечера воскресенья не жди. Она приняла известие на удивление легко: «Ну и проваливай на свою рыбалку».
Он был нужен дома. Нужен сыну.
Но он сбежал. В этот раз – лишь на два дня.
– Ты не мужик, ты дерьмо. Ни семью обеспечить не можешь, ни сына нормального зачать. В тебе нет стержня. Тряпка. Чмо.
– Ты сама-то кто? Сраная училка! Уборщица в вашей замызганной школе получает больше, хоть и тоже с задержками! Тварь, если хочешь равных прав, то и обязанности на себя бери те же, что и мужчина. Тварь! Тварь! ТВАРЬ!
– Ты не мужик, ты дерьмо. Ни семью обеспечить не можешь, ни сына нормального зачать. В тебе нет стержня. Тряпка. Чмо.
– А ты сама-то…
Он открыл глаза.
Это из радиоприёмника?!
Нет, приснилось. Конечно, он так не говорил. Не умел. Не осмелился бы. Не позволило бы воспитание…
Приснилось. Но «Вега» всё равно работает. Шипит как ошалелая. Видать, Берг, дурак, крутил-вертел своё колёсико, а выключить чёртову хреновину позабыл спьяну.
– Пси-волна… двадцатый уровень… мощность тридцать четыре… направление юго-запад… Щань…
Слова, знакомые с детства! Мда… оказывается, где-то в этих краях среди болот до сих пор работает то самое радио – не то военных, не то КГБ. Вот тебе и рухнул Советский Союз…
А может, станция все эти три года после развала сама по себе вещает? Бросили аппаратуру включённой. Запись снова и снова проигрывается.
Голос тот же, что много лет назад. Точно: запись…
Он нашарил впотьмах приёмник – тот почему-то оказался совсем рядом, почти под ухом. Выключил. Улёгся, закрыл глаза. Но сон никак не шёл. С четверть часа Прохор ворочался с боку на бок. Укутывался поплотнее, слушал тихий шелест дождя по крыше.
А почему Женькиного храпа не слыхать? Он ведь вчера нагрузился мама не горюй. Должен бы храпеть.
Но не храпит.
Боже, какие глупости! Ну, не храпит – и не храпит. Некоторые люди не склонны.
Прохору не хотелось понапрасну будить товарища, поэтому он замер и подождал несколько минут, пытаясь хоть краем уха уловить звук Женькиного дыхания.
Не уловил.
– Жень, – тихонько позвал он.
Нет ответа.
– Женя, – позвал громче, откашляв ночную мокроту.
Молчок.
– ЖЕНЯ!
Плохо дело. Если парня здесь нет, то выходит, что уже давно: минут двадцать назад Прохор проснулся.
Кряхтя он поднялся, подошёл к подоконнику, где они оставили керосиновую лампу. Зажёг – не с первого раза: спички немного отсырели.
Когда тусклый свет уверенно заплясал по комнате, он огляделся.
Никого.
Протёр глаза, облизнул губы. Во рту стоял противный привкус.
Где Женька? Явно ведь не пописать пошёл. Это заняло бы минуту от силы: на крыльцо вышел – и готово дело.
Он ещё какое-то время стоял в сыроватом полумраке комнатки в брошенном хуторском домишке, слушал вкрадчивый шёпот октябрьского дождя и гул в голове – последствие вечерних возлияний. Он не то чтобы много выпил, но медицинского спирта много и не нужно.
А Женька-то вчера перебрал. И хорошо перебрал! Прохор отправился спать, когда приятель, пьяно обняв его за плечи, принялся навязчиво расспрашивать о семейных неурядицах. На работе давно ходили слухи. Теперь Берг, надравшись, желал знать всю подноготную. Посчитал, что раз приехали на пару в глушь, то друзья навек.
Чёрта с два! Настырные пьяные попытки влезть в душу заставили Прохора полностью закрыться, запереться от Женьки. «Закончится завтра эта клятая рыбалка, вернёмся в город – и опять разойдёмся своими стёжками-дорожками, словно и не было ничего», – пообещал он себе, отправляясь на боковую.
Он точно помнил: Берг вскоре тоже отправился спать. Завалился на свои пожитки, засопел. Тогда ещё подумалось: хорошо, что молодой ничего не учудил по пьяной лавочке.
И всё-таки, выходит, учудил.
Неужто в полубреду отправился на озерцо удить рыбу? Мог, конечно. Даже без снастей. Вон они, так и стоят в углу, нетронутые. Если не поспешить на помощь, замёрзнет. Прохор за годы службы в морге насмотрелся на «мерзляков». Почернелые носы и конечности, синюшные лица. Почти всегда пьянка, долгая дорога домой, беспамятство, непреодолимое желание поспать в ближайшем сугробе. Реже – поскользнулся, ударился затылком о лёд или бордюр, а дело было поздней ночью, и никого не оказалось поблизости. Или никто из прохожих не захотел помочь. Это сплошь и рядом – не только зимой. Случаев переохлаждения хватает и осенью, и даже летом, если где-нибудь за городом. Околеть в ненастную ночь в лесу – раз плюнуть.
Он тяжело вздохнул. Нужно идти спасать Женьку, пока не поздно. А может быть, уже и поздно… Дороги к озерцу он не знал, но примерно представлял себе расположение водоёма. Повезло, что идти недалеко.
– Балбес ты, Евгений, – полушутливо произнёс вслух Прохор, пытаясь хоть как-то себя подбодрить.
Запахнулся поплотнее, накинул капюшон, прихватил с собой зажжённую керосинку и отправился в путь.
Вода была повсюду. Сыпалась моросью с неба, капала крупными каплями с шифера, с деревьев, с кустов, с каждой травинки. Пропитывала землю, палую листву, кротовые кучи. Въедалась, как кислота, в самую сокровенную плоть земли.
Он прочавкал резиновыми сапогами до кострища, которое, хоть и под навесом, превратилось в размазанную по земле чёрную кашу. Обходя дом кругом, споткнулся о спрятавшуюся в траве кочку, потом о бревно. Чертыхался вполголоса.
Эх, быть бы сейчас дома, в тепле, – подумал он, на миг забыв о…
Ты не мужик, ты дерьмо.
Чёрт его знает, где лучше – дома или здесь.
Может быть, тут всё же спокойнее? В конце концов, кто такой ему этот раздолбай Берг? Никто. Уж точно не друг. Приятель – и то с сильной натяжкой. Станет ли Прохор горевать, если Женька сгинет среди этих лесов, луговин и болот?
Вряд ли. Он сам порой удивлялся, насколько безразличны ему стали беды окружающих.
Вновь в голову полезли мысли о медленно угасающем ребёнке. Слёзы. Бледное личико. Крики боли по ночам.
И жена. Которая быстро сдалась. Показала, что никогда не была готова к настоящим трудностям…
Где-то поблизости раздался высокий, отрывистый, хрипловатый крик:
– А-А!
Боль? Страх? Отчаяние? Безумие?
Прохор застыл на месте, похолодел.
– А-А!
Женька? Заплутал в трёх соснах, промок насквозь? Спирт взвинтил нервы, и теперь он не может выговаривать слова – только орёт?
– А-А!
Дурак ты, Прохор. Это обыкновенная лисица. Ты ж сам из детства помнишь, что их в этих местах пруд пруди…
– А-А!
Керосинка давала мало света. Он видел лишь на метр-полтора дальше своего носа. Только жухлый хмызник. Лисицы не видать.
А ведь она может оказаться бешеной…
Никаких следов Женьки вокруг дома.
Неужто и впрямь отправился к пруду? Тогда пиши пропало. Там он спьяну легко мог захотеть искупаться. Мог утонуть в ледяной воде. Или увязнуть в топи.
Делать нечего – нужно идти искать там. Авось удастся спасти дурака. Как бы самому не заблудиться.
Он обогнул дом и вновь оказался во дворе, откуда тропинка вела к водоёму. Тропинку он так и не отыскал – настолько всё слилось под пеленой дождя в неверном свете лампы.
Перед глазами мелькнуло красное. Какая-то тряпка. Или предмет одежды. То, чего здесь и сейчас точно быть не должно. Ярко-алое.
Он остолбенел, страшась выхватывать из темноты то, что мельком увидел. С трудом поборол желание ринуться прочь.
– А-А!
От нового лисьего крика сердце ухнуло на дно желудка. Прохор дёрнулся. Дёрнулся луч лампы.
Ярко-красная материя.
Вышитый узором тёплый платок – деревенские старухи повязывают такими голову.
Под деревом – две неподвижные фигуры, маленькая и побольше. Маленькая – похоже, мальчик лет восьми. Школьный костюм сидит на теле так же несуразно, как сидел бы на строительных ко́злах. Костюмчик из стратегических советских запасов. На плече нашивка с изображением книжицы и солнца. Один рукав длиннее другого.
Мальчугана держала за руку сгорбленная старуха в праздничной зелёной кофте, чёрной юбке по щиколотку и… том самом домотканом красном платке с бахромой.
Неподвижные, как деревянные истуканы. Черты лиц, словно восковые, расплылись в тусклом, дрожащем свете, который едва пробивался сквозь рыхлую стену дождя.
Прохор уже видел этих двоих. Днём у богдановского кладбища. Вдалеке. Бабка в красном платке вела за руку своего несуразного внука.
И вот, они здесь. Сейчас, ночью.
От испуга у Прохора сбилось дыхание. Он не знал, что говорить. Не понимал, что делать.
Они с Женькой без спроса заняли бабкин дом?
Он мучительно проглотил застрявший в горле ком. Хрипло произнёс срывающимся голосом:
– Это ваш дом?
Парочка молчала.
– Вы из Щани?
Молчок.
– Или из Богдановки?
Сердце билось, словно птица в силке.
Чёрт возьми, да они, может быть, боятся тебя больше, чем ты их! Внук приехал к бабуле на выходные; они навестили могилы родственников… Почему именно на богдановском кладбище – в такой дали отсюда? Да шут их разберёт! Даже самым странным явлениям можно найти логическое объяснение. Старушка, может, плохо соображает. Где-нибудь на развилке свернула не туда и…
– Мы заняли ваш дом?
Вопрос глупый. Дом заброшенный, пустой. Был бы жилой – хозяева б его заперли. Да и Прохор с Женькой не дураки – ни в жизнь не залезли бы ночевать, если б чувствовалось недавнее присутствие хозяев. Оно всегда чувствуется. А тут…
– Мы ничего плохого не хотели, просто…
Как только он сделал шаг к бабке с внучонком, те на шаг отдалились. Передвинулись, хотя ни единый мускул у них не шевельнулся. Как шахматные фигуры невидимой рукой.
– Я сплю, что ль?.. – тихо спросил Прохор у пустоты.
Силуэты мелко задрожали – словно их вот-вот разорвёт. Стал слышен грозный рокот. От парочки исходило слабое, дымчатое болезненно-голубое сияние.
Забыв об осторожности и не глядя под ноги, он ринулся к дому. Споткнулся о кочку, шлёпнулся ничком в холодную грязную воду.
Лампа отлетела в сторону, погасла, потерялась из виду.
Задыхаясь от страха, он кое-как поднялся. Путь к жилищу освещало голубое сияние.
– У каждой захолустной русской деревеньки есть свой погост. И даже у каждого хуторка. А у каких-то деревень по два, по три погоста. Границы селений часто перекраивались. Умирали семьи, мог порой исчезнуть и целый род. А места захоронений нередко были родовыми, а то и семейными – совсем крохотными. Вымирает, погибает, переезжает на новое место семья – кладбище бурьяном и зарастает. На лошадях по нашим-то почепским лесам да топям на такие расстояния ходить – свет не ближний. А если конь, не дай бог, в болоте увязнет? Потому кладбища деревенские и бросали – если с места навсегда снимались, то к родным на могилки уж больше не ездили. И лишь по старым картам да наводкам старожилов можно разузнать, где когда чего было.
Исчезло село – заросло кладбище. И не надо много времени, чтоб оно стёрлось. За полвека любой деревянный крест без поновления в труху рассыплется. То же самое с гробницами: раньше-то их тоже из дерева делали, никаких вам железных да каменных. А дерево – оно быстро гниёт.
А холмики… а что холмики? Травой зарастут, корни их помаленьку разворотят – вот и конец. Нету больше могилки. Была – и нету.
А потом где-нибудь поблизости новый погост делают. После войны их особенно много новых повырастало – как грибы. Старые стирались, новые уж в других местах делались.
Повсюду эти курганы да рощи, где раньше кладбища были. Повсюду. Даже вот под вашим домом. Кости ещё глодает сырая земля, а наверху уж новая деревня стоит. Или новый городской микрорайон.
Вся Россия-матушка – одно большое кладбище. Под землёй – слои да слои мертвецов…
Вон, в Михайловке нашей – одно кладбище общедеревенское, одно родовое, одно семейное. Тимофейки Герасимова и жена тама, на семейном, упокоилась, и дети, и племянник. А самого Тимофейку в лагеря угнали. Как подкулачника. Много тогда народу-то полегло, ой мно-о-о-о-о-о-ого. Тяжкий был год…
Прохор задремал, лишь когда отзвонил, отдребезжал заведённый Бергом на четыре утра сварливый будильник. Ещё нескоро робкая утренняя серость проклюнется сквозь черноту дождливой ночи.
Он уснул, забившись в угол, с топором в обнимку. Долго просидел так, боялся шевельнуться: воображение рисовало бабку с внучонком, стоящих на крыльце за дверью, запертой на хлипкую щеколду. Так и задремал.
Неизвестно, сколько бы пробыл в тяжёлом забытьи, если б не разбудила проклятая «Вега». Слушая старушечье шамканье о деревне Михайловке, он продолжал сидеть с закрытыми глазами, съёжившись. От неудобного положения ныли мышцы. Ныли кости. Ныли сухожилия. Ноги занемели, стали деревянными.
«Вега»…
По крыше глухо, лениво молотил похмельный дождь.
Мысли худо-бедно пришли в порядок, в памяти восстановились события…
Это и вправду было? – подумал он.
Пожалуй, про бабку с внучонком примерещилось. Или приснилось… Он вообще выходил ночью? Или просто спал и видел сон? Но тогда почему сейчас сидит в углу с топором в обнимку?
И почему играет «Вега»?
А, да! Женька вернулся! Шалопай поганый! Это он радио включил. Дурак…
Прохор наконец открыл глаза. Женьки в доме не было.
Конечно, как же он мог вернуться, если дверь заперта на щеколду?..
А была ли она заперта, когда Прохор ночью выходил искать Женьку? Похоже, что так.
А выходил ли Прохор? Или всё же приснилось?
Если приснилось, то как могло получиться, что Берг вышел, а дверь потом оказалась заперта на щеколду?..
Не надо было пить вчера – вот что. Мера – понятие растяжимое. Спирт не пиво, с ним осторожность нужна.
Он кое-как заставил мышцы работать, поднялся на ноги.
Дождь не только молотил по крыше, но и стукал по полу. Именно в эту ночь кровля домишки прохудилась. Капало из прорехи редко, но к утру успела натечь лужица.
– Много тогда народу-то полегло, ой мно-о-о-о-о-о-ого. Тяжкий был год…
Михайловка… Знакомое название. Нет ли тут рядом Михайловки? Может, и есть. Кажется, видел на карте. Наверняка деревень с этим названием прорва по всему Союзу…
Он потянулся к приёмнику, чтобы выключить. Словно почувствовав, что он собирается сделать, «Вега» прервала рассказ о сталинских репрессиях на деревне. Из динамика донёсся хриплый шум переключения.
– Пси-волна… двадцатый уровень… мощность тридцать четыре… направление юго-запад… Щань…
Мужской голос с металлическими нотками, словно пропущенный сквозь несколько динамиков.
Пси-волна…
Что-то такое Прохору попадалось не то в какой-то современной книжке, не то в журнале…
В горле стояла шершавая, колючая сухость. Промочив глотку водой из пластиковой бутылки, он долго вглядывался в мутные мокрые силуэты за окном – раздумывал, что делать дальше.
При свете дня отыскать озерцо оказалось нетрудно. К нему привела узкая, но хорошо утоптанная тропинка, что хитро петляла меж деревьев. Водоём маленький, окружён топью. Подход всего один – и тот почти затоплен дождями. Едва удалось отыскать среди пожелтелого камыша. Границы берегов размыты. Не провалиться бы…
Осторожно ступая, он двинулся поближе к тому месту, где из воды торчали гнилые обломки деревянных мостков. Остановился, когда нога сочно чавкнула и утонула по щиколотку. Оттуда открывался вид на всё вышедшее из берегов озеро, обрамлённое седым, изрядно полысевшим камышом.
Женьки не видать. Либо потерялся и шастает в окрестностях, либо утоп. Утопнуть много ума не надо – достаточно пьяному поскользнуться в грязи да ухнуть в лужу поглубже. Так, наверное, и случилось. Через месяц придут холода. Лежащее ничком тело покроется ледяной корочкой. Потом пойдёт снег. С первым апрельским теплом труп вспухнет, начнёт разлагаться и вонять. Вернутся из спячки дикие звери, придут на пир. Что не доедят они, то дожрут жуки да червяки. До голых косточек охотнички тоже найдутся. Бабка сварганит для внучонка наваристый бульон.
– Нет уж, сам я тебя в этих дебрях не отыщу, – сказал Прохор вслух, озираясь. – Пусть менты ищут.
Продрогшие в котелке макароны с тушёнкой аппетита не вызывали. Но поесть было нужно – путь предстоял неблизкий. Он силком запихал в себя добрую порцию, заел хлебом, запил стылым чаем. Накрыл котелок крышкой, поставил в угол. Сунул в рюкзак оставшуюся банку тушенки. На клочке газеты написал карандашом: «Ушёл в Сосновое Болото искать участкового. Тебя искал, не нашёл. Прохор». Оставил на видном месте.
Женькины пожитки аккуратно сложил у стенки, ничего не взял – даже топор оставил. Мало ли, вернётся Женька. Хотя Прохор был уверен: не вернётся.
В сухую погоду идти по этой просёлочной дороге было легко – можно сказать, одно удовольствие. Зато после хорошего затяжного дождичка она раскисла, расхлябилась. Ноги если не скользили, то увязали. На сапоги налипали жирные комья глинистой грязи.
Часа через два он понял, что не узнаёт местность. Они с Бергом тут точно не проходили. Впереди за пеленой дождя виднелся протяжённый ступенчатый склон, в конце которого, вдалеке, тянулась ЛЭП.
В другую погоду и при других обстоятельствах картина могла бы захватить дух. Но сейчас Прохор лишь скрипнул зубами. Он явно не туда свернул и уже, возможно, оставил позади Богдановку с Сосновым Болотом.
Придётся возвращаться, искать другую развилку, чтобы пойти на север – в большое село Красный Рог.
Он хотел закурить, но за время пути сигареты и спички отсырели в кармане, превратились в кашу. Всё обернулось против него.
Времени прошло ещё с час или полтора. Дорога с каждым шагом становилась хуже, а дождь – напористее. Уже не моросил, а лил. Двигаться приходилось не по само́й дороге, а вдоль – по кромке. Здесь пучки травы пока ещё не позволяли почве превратиться в коричневый кисель.
Местность пошла под уклон, и вскоре путь преградила вода – лужа размером с озерцо. Затопила дорогу, часть поля. Лишь кое-где над покрытой рябью поверхностью проглядывали, словно зовя на помощь, утопающие травы.
Он попробовал перейти лужищу вброд, но через пару шагов нога провалилась, в сапог через край хлынула ледяная вода. Мышцы зашлись в судороге.
Отпрянул на шаг, едва не ухнул спиной в грязную жижу. Ручейки потекли с края капюшона на лоб, залили лицо. Струйка пробралась за ворот, под свитер.
За лужей – крутая горка. Просматриваются две глубокие колеи – кто-то когда-то забуксовал. Поросли́ высокой травой, которая от дождей приникла к земле. Там обогнуть самые трудные места тоже будет непросто: по сторонам – непролазный хмызник.
С Красным Рогом не вышло. Придётся возвращаться в Щань, искать третий путь. Наверняка есть дорога на юг, в Трубчевский район.
Переступил порог хуторского дома. Комната – сырая, холодная, но хотя бы без хлещущей сверху воды, без ветра, что норовит пробраться под одежду. Плотно прикрыл за собой дверь. Отряхнулся, скинул плащ – тот беспомощной мокрой кучкой плюхнулся на грязный пол.
Когда в ушах стих шум дождя, Прохор услышал голос. Женский. Сквозь помехи.
– Ты знаешь край, где всё обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишнёвых рощах тонут хутора…
Как будто специально подгадали под его возвращение. Немолодая женщина-чтец продолжала торжественно вещать. Прохор стоял столбом, растерявшись. Кто включил «Вегу»? Он ведь точно помнит, как перед уходом выключал.
Тьфу, чёрт бы подрал эту поганую Щань и эту злосчастную рыбалку! И этого Женьку… Впрочем, с Бергом чёрт уже, видать, работает – взял в оборот, так сказать.
Здесь, где октябрь с его дождями и пронизывающими ветрами воет волком в зарастающих бурьяном полях, высокопарное стихотворение о «цветущей грече», «золотых нивах» и «лазури небес» звучало издевательски. Прохору почудилась злая, насмешливая нотка в женском голосе, что непоколебимо декламировал из динамика.
– Ты знаешь край…
Кто это? Стихи знакомые. Наверное, когда-то давно проходили в школе. Проходили мимо. Прохор никогда уроки литературы не любил: вела их грымза, способная к каким угодно шедеврам убить интерес.
Толстой. Точно. Алексей Константинович. Граф. Великий русский поэт. Гордость наших мест.
А ведь он, этот ваш Толстой, как раз здесь, недалеко, жил, сочинял, охотился. Это что, какая-то местная радиостанция? Красный Рог – место хоть и известное, но всё равно захолустное. Тут дай бог сельсовет худо-бедно работает. А чтобы радиостанция… Или она нелегальная?
С другой стороны, кто с риском схлопотать уголовку станет самовольно занимать радиоволну, чтобы тётка средних лет читала слушателям старые вирши? Если б для политической агитации, демократов свергать – это ещё понятно…
– Ты знаешь край, где Сейм печально воды…
Чтица запнулась, прокашлялась – громко, влажно, не стесняясь. Прямо в микрофон. Даже рот рукой не прикрыла. Прохор невольно представил, как коричневая, словно грязь с просёлочной дороги, мокро́та шлёпается на стол.
– … Меж берегов осиротелых льёт…
– Тьфу, ёб твою! – с алкоголической хрипотцой в голосе выругалась женщина. Вновь хорошенько прокашлялась. Продолжила:
– Над ним дворца… кхгм… разрушенные своды,
Густой травой давно заросший вход…
На последних трёх стихах голос загрубел, стал как у матёрого уголовника-рецидивиста.
– Стихотворение было написано в одна тыща восемьсот сороковые годы, – сообщил преобразившийся до неузнаваемости вещатель.
Помехи.
– Пси-волна… двадцатый уровень… мощность тридцать четыре… направление юго-запад… Щань…
Опять эта пси-волна. Неужели военные действительно ставили здесь эксперименты над людьми? Выходит, и продолжают?
Раньше Прохор не верил в истории про психотронные генераторы – считал их уткой распоясавшихся на закате перестройки газетчиков.
А что, если?..
Да ну, чёрта с два! Слово «пси-волна» может означать что угодно, оно не обязательно связано с гипотезой о психотронных генераторах.
Конечно, это военные, но всякие выдумки диссидентов об опытах над людьми вряд ли стоит принимать всерьёз. Ну да, есть поблизости некий военный объект. Судя по всему, до сих пор действует. Вон, координаты какие-то передают. А что это за литературные упражнения у них в эфире – уж им самим видней. Для чего-то оно, видать, нужно…
Приёмник повторил. Как показалось Прохору, чеканнее, настойчивее:
– Пси-волна… двадцатый уровень… мощность тридцать четыре… направление юго-запад… Щань…
Динамик пару раз крякнул, хрипнул. Замолк.
Надо было перевести дух, ещё разок перекусить – мало ли, когда теперь получится.
Он кое-как снял сапоги, поставил в угол, один – подошвой вверх, чтоб вытекла вода, что чавкала внутри. Носок промок насквозь, но Прохор не стал его стаскивать: на теле быстрее высохнет. Принялся растирать. Когда кровь разогрелась, устроился поудобнее на полу. Хлебнул холодного чаю из термоса. Поставил перед собой котелок, снял крышку. Студенистое месиво пахну́ло пряно-мясным ароматом.
Поел.
Стало клонить в сон. Укутаться бы поплотнее да провалиться в забытьё…
Надо возвращаться домой. Но прежде известить милицию, что без вести пропал человек.
Где тут ближайший населённый пункт из тех, что южнее?
Его всё ещё мучил вопрос: КТО мог включить радио? И тогда в голову закралась крамольная мысль: а что если Берг всё это время его разыгрывает? Что Прохор знает об этом парнишке? Да ровным счётом ничего. Мог ли шалопай устроить эдакий грандиозный розыгрыш?
Почему, собственно, нет?
Он и включил приемник? Или бабка с внуком шалят? Может быть, они сумасшедшие? Сбежали из-под присмотра родственников и шатаются по окрестностям неприкаянные?
Да уж… Гадать бессмысленно. Нужно свыкнуться с простой мыслью: разумное объяснение происходящему есть. И оно даже проще, чем можно себе представить…
Зевая, он достал из рюкзака карту, бережно развернул.
Да вот, пожалуйста. Пара-тройка километров дальше на юг – и какая-то Михайловка. Деревня, не хутор.
Михайловка?
Да, Михайловка.
Он решил не зацикливаться на том, что услышал по радио раним утром. А не то и с ума спятить недолго.
Ещё дальше – Сергеевский, поселок. Там и дворов прилично. Наверняка участковый имеется. А ежели не имеется, то подскажут, где есть. А если и не подскажут, то и дальше на юг какие-то селения обозначены – Александровский, Вершань, Петровский. Потом пересекаем границу Почепского района, оказываемся в Трубчевском. Деревня Мошки́. Небольшая, но с автобусной остановкой. Может быть, повезёт – и автобус до сих пор ходит. С выпуска карты всего-то пять лет прошло… Если и там нет участкового, то можно со спокойной душой уезжать в город, домой – обратиться в милицию там. Если же автобусное сообщение отменили, то ещё километров через пятнадцать – трасса на Трубчевск. Вот там автобусы точно ходят.