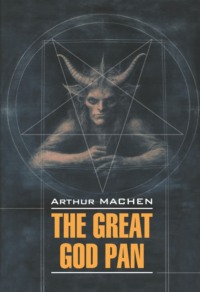Полная версия
Холм грез. Тайная слава
– Если бы дело было только во фланели! – заметила славившаяся строгостью своих правил девица Колли. – Воэны устраивали настоящие оргии на каждое Рождество. Огромные куски самой лучшей баранины, целые бочки крепкого пива, сколько угодно табаку – и все это даром, как будто они нарочно поощряли самые отвратительные привычки бедняков. Я потом весь январь боялась ходить мимо деревни – так сильно там воняло трубочным табаком.
– Теперь видно, к чему все это приводит, – заключила миссис Диксон. – Мы собирались было их навестить, но после того, что рассказала мне мисс Джервейз, это совершенно невозможно. Подумать только – Воэн пытался доить мистера Джервейза, словно последний нищий. Какая низость!
Каждый раз, когда Луциан сталкивался с действительностью, он отступал в изумлении: в подлинной жизни в женской натуре не обнаруживалось ничего похожего на возвышенную самоотверженность. Под гладкой кожей рук, созданных для ласки, проступали хищные мускулы; ладони, которые должны были щедро раскрываться навстречу несчастным, при каждом удобном случае хватали разящее оружие, а улыбку на прелестных устах вызывала не нежность, а пренебрежение. Собственный опыт Луциана также был неутешителен: миссис Диксон осуждала юного Тейлора, да и молодые леди не очень-то дорожили знакомством с ним. Конечно, они «обожали» книги и «приходили в восторг» от стихов – но это в теории, а на практике их куда больше интересовали разговоры о лошадях, собаках и соседях.
Это были вполне милые девушки, ничуть не хуже любых других провинциальных девиц, которые имели обыкновение охотно выслушивать наставления своих родителей, каждый день с утра читать у себя в комнате Библию, а по воскресеньям занимать свое место в церкви – справа, посреди других хорошо одетых прихожанок. И не их вина, что они не имели ничего общего с идеалом, владевшим душой мечтательного и восторженного мальчика. Более того, если бы в реальной жизни им повстречалась леди его снов, они бы сочли ее дурно воспитанной, нелепо сентиментальной, плохо одетой («Боже мой, дорогая, она же не носит корсета!») и слегка чокнутой.
Некоторое время Луциан оплакивал утрату прелестного и ласкового идеала, созданного его воображением. Когда девицы Диксон проходили мимо него, высокомерно задрав нос, или когда дочки Джервейза проезжали в коляске, обдав его грязью, Луциан поднимал на них глаза, исполненные такой печалью, что эти приземленные создания не могли удержаться от хохота.
– Завел глаза, словно подыхающая курица! – восклицала остроумная Эдит Джервейз.
Эдит и в самом деле была прелестна. Луциан не раз пытался заговорить с ней. Он мог бы беседовать с ней даже о фокстерьерах, лишь бы она слушала. Однажды, в гостях у Диксонов, Луциан навязал Эдит свое общество и завел разговор о теннисоновских «Вкушающих лотос», что было полной глупостью. Во время этого разговора капитан Кэмптон все время перемигивался с Эдит, а лейтенант Гэтвик вообще ушел, не скрывая досады, – а ведь он обещал Эдит щенка самой Веспы от самого Вика! Наконец бедняжка не выдержала.
– Все это, конечно, очень мило, – прощебетала она, – но когда же вы все-таки поедете в Лондон, мистер Тейлор?
Луциан знал, что о его несчастье уже известно всем, но так и не понял, что Эдит намеренно причинила ему боль. Он жалобно взглянул на девушку и поплелся прочь – «словно побитая собака», по выражению той же Эдит. Двух-трех таких уроков Луциану хватило. Отныне, встречая юного Диксона или Джервейза, он закусывал губу и собирался с духом для схватки, но, стоило появиться кому-нибудь из соседских ангелов-утешителей, Луциан тут же прятался за изгородь или поспешно сворачивал в лес. Со временем желание скрыться превратилось у него в непреодолимую потребность. Он стал избегать людей, как в горах остерегался змей. Старый идеал был похоронен – теперь Луциан знал, что самки рода человеческого жалят не хуже змей, и стал избегать их, не испытывая ни малейшего сожаления. У змеи – ядовитое жало, у женщины – ядовитый язык. И с той и с другой лучше не связываться. А потом, когда Луциан брел из Каэрмаена с книгой, которую украл у него предприимчивый Бейт, его захлестнула внезапная ярость, ненависть ко всему человечеству. Теперь он содрогался, вспоминая, как близок был к безумию, как налились кровью его глаза и как заплясали перед ним языки пламени. Он с ужасом вспоминал, как взглянул на небо и увидал багровое зарево, как опустил глаза и узрел кроваво-красный поток, который бушевал у него под ногами и заливал окаймлявшие горизонт темные леса. Ужасно было само воспоминание о той безумной ночной прогулке в тумане, где каждая тень казалась вестницей нависшего над ним рока. Шорох ручья, свист ветра, бледный лунный свет, пробивавшийся меж древесных стволов, его собственная фигура, скользящая среди мрачных теней, – все это казалось Луциану символом печальной и страшной сказки. А когда солнечный свет и сама жизнь остались позади, Луциан вступил в царство мертвых. И уже стали подгибаться его колени, как вдруг каждый мускул окреп и налился новой силой – рядом шла женщина, еще одна представительница этого проклятого рода, и в Луциане вдруг проснулся дикий зверь, почуявший кровь и звериную похоть. Все безумные желания породившей его древней расы отчаянно боролись в сердце. Из туманного леса, из горных пещер выступили духи, осаждая, одолевая юношу, как некогда римское войско осаждало Каэрмаен. Они звали Луциана на страшную битву, они сулили победу, какая не снилась ему в самых мучительных, самых безумных снах. Но вновь из тьмы прозвучал нежный голос – и ласковая рука удержала Луциана на краю обрыва. Воспоминание о том, как он обрел Энни, как в ней воплотился в жизнь идеал его юности, как ожили в его душе страсть, сострадание, любовь, жалость и утешение, окрыляло Луциана. Красивая, полная жизни и силы девушка принесла ему в жертву свою красоту, и только ей он теперь мог поклоняться. Луциан вспоминал, как его слезы упали ей на грудь и как она прижала к груди его голову, шепча невнятные волшебные слова, покорившие его сердце. Как беззащитна была она перед ним, как целовала его, как ласкала его тщедушное тело, которое у других вызывало лишь презрение. Он вновь переживал тот восторг, с каким опустился перед ней на колени и обнял ее ноги, обожествляя и возвышая ее над всеми живущими. Этому телу он поклонялся. По ночам Луциан лежал без сна, вперясь в темноту голодным взором и моля о чуде, о внезапном явлении желанного ему тела. Забравшись в какое-нибудь уединенное место в лесу, он падал на колени, простирался во весь рост на земле и вытягивал руки, словно надеясь коснуться вожделенной плоти. Старый священник заметил, что Луциан приобрел привычку набивать карманы своего пальто какими-то листочками: во время прогулок он то вынимал свою рукопись и, что-то бормоча, читал ее, то снова прятал и молча бродил по дорожкам или делал несколько быстрых шагов и замирал в экстазе, словно сквозь толщу воздуха его взору проступал некий сияющий победоносный мир. Мистер Тейлор слегка встревожился, хотя и полагал, что Луциан опять пишет книгу. Старый священник находил в таком процессе творчества нечто непристойное, слишком обнаженное и плотское – как если бы великая актриса вздумала гримироваться прямо на сцене, перед публикой, чтобы все могли видеть, как становятся более округлыми ее ноги, как соблазнительно натягивается трико и искусственно создаются нужные выпуклости, как заимствуется из коробочки румянец, а парикмахер пристраивает на голове актрисы золотые локоны из чужих волос. Мистер Тейлор верил в непорочное зачатие книг. Ему казалось, что они появлялись на свет уже напечатанными, изящно переплетенными и, уж конечно, безо всяких предварительных усилий, – так маленькие дети верят, что мама нашла очередную сестренку в капусте. Но мало каждодневного труда над книгой, Луциан был еще подвержен каким-то странным, экстатическим приступам восторга. Мистер Тейлор наблюдал, как он вскидывает руки к небу и нелепо трясет головой. У старого священника появились все основания опасаться, что его сын пойдет по стопам тех безумных французов, о которых он когда-то читал: эти юнцы помешались на книгах и решили посвятить им всю свою жизнь. Они проводили целые дни, вымучивая одну и ту же страницу, и многие годы посвящали отделке одного произведения. Они относились к искусству с той же священной серьезностью, с какой англичане относятся к деньгам, и литература значила в их жизни то, что в нашей жизни значит бизнес. Мистер Тейлор, со своей стороны, был склонен рассматривать литературу как «хобби»: он полагал, что каждый писатель должен прежде всего иметь солидную профессию и надежный заработок. «Найди себе работу, – мысленно говорил он сыну, – и пиши по вечерам сколько хочешь. Разве не так было с Диккенсом, Скоттом и Троллопом?» К тому же Луциану следовало бы принять во внимание и общественное мнение. Справедливо это или нет, но писатель – если он всего-навсего писатель – не слишком-то ценится в английском обществе. Мистер Тейлор несколько раз перечитывал всего Теккерея и помнил, что старый майор Пенденнис, это олицетворение «света», предпочитал умалчивать о профессии племянника, Уоррингтон лишь нехотя признавался в своих занятиях журналистикой, а сам молодой Пенденнис открыто посмеивался над собственными литературными трудами, служившими для него лишь источником дополнительного дохода. Так смотрели на эти вещи нормальные англичане, и мистер Тейлор был вправе считать их мнение голосом здравого смысла. И когда старый викарий видел, как Луциан целыми днями бродит по окрестностям, а ночами мечтательно склоняется над своей рукописью, да и вообще являет все признаки восторженного бреда, который англосаксами на протяжении всей их истории считался безумием, он тяжело вздыхал и вновь начинал сокрушаться, что не смог отправить мальчика в Оксфорд.
«Оксфорд выбил бы всю эту чушь у него из головы, – размышлял мистер Тейлор. – Луциан наверняка получил бы стипендию по классическим языкам, как когда-то мой отец, и тогда уж точно смог бы многого добиться в жизни. Но, увы, тут уж ничего не попишешь». Удрученный викарий со вздохом раскуривал трубку и уходил в другую часть сада, подальше от сына.
Но он ошибался в своем диагнозе: книга, которую Луциан недавно начал, лежала нетронутой в ящике стола. Юный литератор целиком посвятил себя своей тайне, а в кармане пальто он прятал новую рукопись, и она находилась при нем и днем и ночью. Во сне он прижимал драгоценные листки к сердцу, когда оставался один, целовал их и поклонялся им так, как поклонялся своей отсутствующей возлюбленной, которую нетленные страницы и призваны были заменить. Луциан исписал эти листки чудесными заклинаниями, песнопениями и молитвами, составившими костяк его новой веры. Он без конца переписывал и исправлял свой влюбленный бред, проводил целые дни в поисках точных слов, свежих и незатертых эпитетов. Обычные слова тут не годились, но не годились и те, какими он мог бы написать, скажем, новую повесть. Слова этой литургии лились неудержимым потоком, они сияли и жгли, они плавились и отливались заново, словно небесное ожерелье в руках Творца. Луциан стремился воспеть каждую часть священного и прекрасного тела своей возлюбленной. Он отдавал ей душу и разум, целовал землю у ее ног, унижая себя и ликуя, словно тамплиер перед изображением Бафомета. Особенно Луциан радовался тому, что в его восторгах не было ничего заурядного и условного. Он ничуть не подражал пылким влюбленным Теннисона, ибо в их любви страсть соединялась с достоинством и представляла собой любовь уважительную – типичную любовь джентльмена и леди. Энни не была леди. Морганы сотни лет пахали землю и, по мнению миссис Диксон, миссис Джервейз и всех прочих, относились к простонародью. Благородные джентльмены Теннисона были скромны и сдержанны в своей любви, а их возлюбленные являлись им в струящихся пышных одеждах, двигались медленно и величаво и в конце концов должны были стать хозяйками в их замках и матерями благородных детей. Эти господа склонялись перед своими возлюбленными, не унижая себя, постоянно помня о своем благородном происхождении и видя в предмете своей любви не только будущую жену, но и достойную спутницу жизни. Все это не подходило к любви Луциана. Он не раз говорил себе, что не был ни молодым офицером, ни банковским клерком, ни успешно делающим карьеру адвокатом, помолвленным с мисс Диксон или мисс Джервейз. Ему не придется присматривать маленький домик в добропорядочном предместье для устройства семейного гнездышка, выбирать обои и выслушивать подначки друзей относительно пустующей комнаты, которая со временем обязательно превратится в детскую. Жизнерадостная юная особа не повиснет на его руке, когда он отправится на поиски белого гарнитура для гостиной или же ночных ваз «для нашей спальни», причем в последнем случае опытный продавец сделает все возможное, чтобы его клиенты не краснели. Когда Эдит Джервейз соберется замуж, мамочка подберет ей двух хороших слуг («Поначалу нам придется жить совсем скромно!») и сама проверит, чтобы канализация и все прочее в доме было в порядке. Затем подружки Эдит напросятся в гости и восторженно переберут «очаровательные вещицы» хозяйки:
– Да у нее всего по две дюжины!
– Этель, посмотри, какие чудные оборочки!
– Право же, эта вышивка прелестна!
– Ах, счастливица Эдит!
– Все белье мадам Лулу специально шила на заказ!
– Какая изысканность!
– Надеюсь, он будет достоин своего счастья!
– Ой! Вы только поглядите на этот изумительный корсет!
– Ах, дорогая, какая же ты счастливая!
– Настоящие кружева валансьен!
А в заключение одна из девиц шепнет кое-что сокровенное на ухо счастливой невесте, и та взвизгнет: «Не смей, Нелли!» Так они будут щебетать над сорочками и прочим нижним бельем, и дела пойдут своим чередом вплоть до самой свадьбы – того знаменательного дня, когда мамочка, положившая столько сил и умения, чтобы загнать подходящего молодого человека под венец, смерит несчастного жениха негодующим взглядом и зарыдает, расставаясь с ненаглядной дочкой:
– Будьте внимательны к ней, Роберт!
Затем быстрый шепот на ухо невесте:
– Не забудь: когда приедете домой, Уимен должен первым делом промыть всю канализацию. Эти слуги так ленивы и нечистоплотны! Не отпускай его бродить по Парижу – с мужчинами никогда не знаешь наперед. Не забыла таблетки?
И наконец громким голосом:
– Прощайте, дорогие, и благослови вас Бог! Прощайте, прощайте!
Куда удивительнее и прекраснее было то, что Луциан доверял страницам своей рукописи. В россыпи слов, обжигавших и светивших раскаленным светом, словно угли, таилась стихийная мощь огня. Были там слова, трепетавшие под руками Луциана, вонзавшиеся ему в пальцы, когда он переносил их на бумагу. Были там плавные и благозвучные слова, словно списанные со старинной литании, слова, изливавшиеся из его души в часы экстаза и восхищения. Луциан надеялся, что почти все, написанное им, окажется в чистейшем смысле слова мистикой: непосвященные могли бы часами читать и перечитывать эти страницы, так и не проникнув в их сокровенный смысл. День и ночь он обдумывал каждую букву, переписал рукопись девять раз, прежде чем осмелился перенести ее в маленькую книжицу, которую сделал сам из куска старого бледно-желтого пергамента. Еще мальчиком, пребывая в поисках бессмысленного и бесплодного знания, Луциан научился выполнять иллюстрации (сам он предпочитал называть их виньетками, поскольку любил не только устаревшие виды мастерства, но и устаревшие слова). Он часами выстраивал ровные столбцы букв и переписывал текст десятки раз, пока в совершенстве не овладел техникой каллиграфии. С прилежанием монаха-писца Луциан затачивал перья, то чуть заостряя их бритвой, то полностью заменяя острый кончик и подбирая нужную гибкость и прочность, пока не создал для себя стило, дававшее четкую, тонкую и ровную линию. Затем он принялся за цвета – ему хотелось отыскать средство, которое могло бы превратить современную краску в глубокие, матово-черные чернила старинных манускриптов, и, только когда Луциану удалось заполнить нужным ему шрифтом чистую страничку, он занялся чарующим искусством виньеток, прописных букв, эмблем и оформления полей. Особенно Луциану нравилось ломбардское письмо с похожими на готические храмы буквами, и он постарался перенять эти твердые и плавные линии, а уж потом начались виньетки и плетеные орнаменты, заполонившие каждый свободный дюйм страницы. Добрая мисс Дикон называла все это пустой тратой времени, да и мистер Тейлор предпочел бы, чтобы сын раньше выправил свой обычный почерк – скверный и совершенно неразборчивый. Да и кому нужен в наши дни виньеточник? Луциан отправил несколько образчиков своего искусства в одну лондонскую художественную фирму: стихотворение, украшенное причудливыми узорами, и латинский гимн с нотами на темно-красном фоне. Художественная фирма прислала ему вежливый ответ: его работа, несомненно, была вполне профессиональна, но все же не соответствовала их требованиям. К письму прилагался художественно оформленный текст: «Мы посылаем вам образец, который в настоящее время пользуется большим спросом, и, если вы пожелаете сделать что-нибудь в таком духе, мы с радостью примем вашу работу». То был гимн «Господь, призри на мя» – выхолощенный, искусственный шрифт с разноцветными буквами, напоминавшими дома в виде длинных средневековых курительных трубок, построенные в подражание Кентерберийскому собору, но не имевшие никакого отношения к готике. Инициал, само собой, был золотым, «о» – розовое, «с» – черное, «п» – голубое. В довершение всего из инициала нелепым образом свешивалось птичье гнездо, до отказа набитое птенцами, а над гнездом парила белоснежная голубка.
– Какая прелесть, – сказала мисс Дикон. – Я повешу его у себя в спальне. Почему бы тебе не сделать что-нибудь в этом роде, Луциан? Глядишь, заработал бы немного денег.
– Я послал им мои тексты, – объяснил Луциан, – но они их не приняли.
– Еще бы, мой дорогой! Они и не могли их принять. Что это тебе вздумалось изрисовать все поля такими нелепыми цветами? Вот, например, розы. Какие же это розы? И вообще, при чем здесь цветы?
– Рисунок должен соответствовать тексту. Вчитайтесь в слова!
– Дорогой мой, я не могу «вчитываться в слова», потому что ты пишешь ужасно старомодным почерком. Другое дело этот текст – все так ясно и четко написано, что сразу становится понятно, о чем идет речь. А что у тебя здесь? Этого я и вовсе разобрать не могу.
– Это латинский гимн.
– Латинский гимн? Значит, не протестантский? Может быть, на твой взгляд, я и старомодна, но я предпочитаю наши славные гимны. А это, по-твоему, ноты? Дорогой мой, ты же начертил только четыре линеечки! И где это видано, чтобы ноты были квадратными или шестиугольными? Что же ты не заглянул в старый сборник твоей бедной матушки? Он лежит в гостиной, в шкапчике. Если хочешь, я покажу тебе, как рисуют ноты: главное – не забыть четвертые и восьмые доли.
С горестным вздохом мисс Дикон отложила переписанный Луцианом «Urbs beata»[2] – она была убеждена, что ее племянник – «полный дурак».
Луциан же спустился в сад и, укрывшись за изгородью, дал волю своему гневу – перевернул пару цветочных горшков и поколотил тростью яблоню. Слегка успокоившись, он спросил себя, был ли какой-либо смысл во всех его трудах. Луциан не хотел себе в этом признаваться, но на самом деле его больно задело, что даже самые близкие ему люди предпочитали голубков и «ясный текст» геральдическим розам и латинским гимнам. Он так много вложил в эту работу и знал, что сделал ее хорошо. Луциан надеялся на заслуженную похвалу, но в этом мире его никто не ценил – кругом были одни лишь критики. Стороннего наблюдателя корчи и судороги молодого человека под ударами этой «старой дуры», как мысленно обозвал Луциан свою тетку, несомненно, могли позабавить. Так наслаждаются маленькие дети, отрывая своими нежными пальчиками или, скажем, отрезая мамиными ножницами лапки и крылья мухам. Насекомое кружится, дергается, тоненько жужжит, и это доставляет малышам удовольствие самого невинного свойства. Луциан считал себя слишком доверчивым и старался обзавестись такой же нервной системой, как у мух, которые, по словам мамочек подобных малолетних экспериментаторов, «ничего не чувствуют».
Но теперь, иллюстрируя свою пергаментную книжицу, он с радостью припомнил былое, – выходит, пригодилось его умение делать красивые вещи. Луциан снова перечитал свою рукопись и задумался над тем, как лучше оформить ее страницы. Он сделал множество набросков на отдельных листах бумаги, и ему пришлось перерыть всю отцовскую библиотеку в поисках новых образцов. Он извлек на свет запыленные книги по архитектуре и трактаты о средневековых металлических украшениях. Их красочные иллюстрации подсказали ему кое-какие идеи, но этого было мало. Он отправился в поля и леса, разглядывая причудливые стволы, жутковатые переплетения водорослей, извивы жимолости и вьюнка. Во время одной из таких вылазок ему попалась красная глина, послужившая основой краски для буквиц, в другой раз он обнаружил в спорах папоротника пигмент, от которого его чернила стали более матовыми. Рукопись Луциана была полна символов, из символов построил он и орнамент на полях: причудливая листва разрослась вокруг текста, распускались таинственные цветы, а из чащи розовых кустов выглядывали диковинные животные. И все это во имя любви – дань его любовному безумию. Теперь каждую страницу украшали стихи и песнопения, рефрены которых преследовали Луциана во сне и наяву. Когда книга наконец была закончена, он сделал ее своим постоянным спутником, заменив ею так тревожившие старого викария разрозненные листки. Трижды в день Луциан совершал свое таинство, выбирая для этого уединенное место в лесу или закрываясь в комнате наверху: видя, как сосредоточен и полон восторга его взгляд, старый викарий думал, что сын по-прежнему погружен в сомнительный процесс творчества. Луциан научился просыпаться по ночам для свершения таинственного обряда и разработал особый церемониал, который исполнял каждую ночь, поднимаясь в темноте и зажигая свечу. На крутом лесистом холме недалеко от дома он срезал пять кустов буйного можжевельника и, один за другим, тайком перенес их в дом, где спрятал в большом сундуке возле своей кровати. Почти каждую ночь он просыпался в слезах, бормотал слова своих песнопений, зажигал свечу, вынимал из сундука можжевеловые ветви, расстилал их на полу и, сняв ночную рубашку, укладывался нагим телом на эту постель из шипов и жестких шишек. Придвинув к себе свечу и книгу любви, он тихо и нежно повторял хвалу своей любимой, ненаглядной Энни. Луциан перелистывал страницу за страницей, вглядываясь в золото заглавных букв, пылавшее и плавившееся в огне свечи, и шипы можжевельника с необычайной лаской касались его тела. Он впитывал изысканную сладость физической боли. После двух или трех таких ночей Луциан внес новые поправки в свою книгу, отметив особым знаком на полях пергамента те строки, при чтении которых он должен был теснее прижиматься всем телом к шипам можжевельника, добровольно навлекая на себя желанную муку. Отныне он каждую ночь просыпался в урочный час. Его стальная воля неизменно одолевала самый глубокий сон, и он вставал в радостных слезах, со священным трепетом готовил колючее ложе, вознося своей любимой хвалу и принося ей в жертву собственную боль. Прошептав последнее слово, Луциан поднимался с колючек. Все его тело покрывали капельки крови, и он с гордостью созерцал эти отметины. Порою какой-нибудь шип глубоко впивался в тело и застревал там. Луциан безжалостно выдирал эти шипы, не щадя себя. В иные ночи, когда он слишком сильно прижимался к шипам, кровь текла по его бедрам, красные язвочки вспухали на ногах и на полу образовывались темные лужицы. Все сложнее было застирывать простыню так, чтобы кровавые следы не привлекли внимания прислуги. В конце концов Луциан решил не возвращаться в постель после исполнения обряда. Он нашел старенький ветхий темный плед и заворачивал в него свое обнаженное истерзанное тело, укладываясь спать на жестком полу и радуясь, что к сладостным мукам добавилась новая боль. Он был весь изрезан рубцами – ранки, поджившие за день, ночью вновь раздирались шипами, бледно-оливковая кожа покрылась кровоподтеками, изящное юное тело превратилось в изнуренное тело мученика. Луциан худел с каждым днем и все чаще отказывался от еды. На лице его стали выпирать скулы, черные глаза глубоко запали. Наконец родные заметили, что он «плохо выглядит».
– Это просто безумие, Луциан! Ты совсем не следишь за собой, – заявила однажды утром мисс Дикон. – Посмотри, как у тебя трясутся руки. Люди подумают, что ты начал пить. Тебе давно пора принимать лекарство, а ты не желаешь никого слушать. Меня ты не можешь ни в чем упрекнуть: я тебе каждый день повторяю – попробуй порошки доктора Джелли.
Луциан вспомнил, как в детстве его силой заставляли принимать эти порошки, и порадовался, что те дни давно остались позади. Теперь он мог лишь ухмыльнуться, глядя в глаза своей озабоченной родственнице, и проглотить чашку крепкого чая в надежде успокоить расходившиеся нервы. Однажды в Каэрмаене он встретил миссис Диксон. День был жаркий, а Луциан шел слишком быстро. Рубцы на его теле горели и пульсировали. Остановившись, чтобы поклониться, Луциан покачнулся. Миссис Диксон немедленно сделала вывод, что он «напился где-нибудь в кабаке».