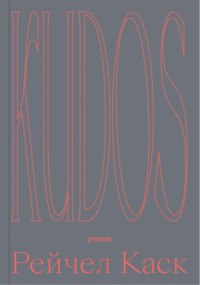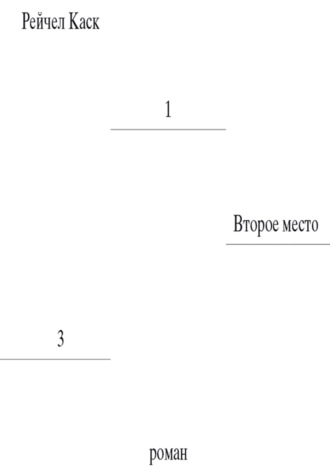
Полная версия
Второе место
Мы построили второе место, когда Тони купил участок, граничащий с нашим, чтобы предотвратить грубую эксплуатацию земли. Правила ведения хозяйства здесь строгие, но люди, конечно, находят всевозможные способы их обойти. Самый обычный – посадить деревья, а потом вырубить их ради прибыли: эти чахлые худосочные деревца быстро вытягиваются ровными рядами, как солдаты, а потом так же быстро, как солдаты, падают, и от них остаются ампутированные обрубки. Мы не хотели, чтобы эти бедные солдаты день и ночь маршировали на смерть у нас под окнами. Поэтому мы купили участок, чтобы вернуть его природе, но как только начали убирать колючие кусты и поваленные деревья, наткнулись на нечто совершенно неожиданное. Тони позвал знакомых, которые всегда помогают друг другу, когда требуется выполнить тяжелую физическую работу. Некоторые из кустов были высотой в двадцать футов, Джефферс, и, пытаясь защититься, они исцарапали мужчин чуть ли не до смерти, но, когда их всё-таки вырезали, под ними обнаружилось множество разных вещей. Мы нашли красивую полусгнившую парусную лодку и два старых автомобиля, а затем аж целый дом, погребенный под горой плюща! Мы обнаружили оболочку чьей-то жизни, и вдобавок оказалось, что вид на болото оттуда лучше, чем с нашего участка. Я часто гадала, кто же тот человек, чья жизнь была предана такому глубокому забвению, что буквально ушла под землю. Машины успели почти полностью проржаветь, что выглядело своеобразно, и мы не стали их трогать и скосили траву вокруг, чтобы их было видно; так же поступили и с лодкой, которая стояла на вершине склона, подняв нос к морю. Я всегда видела в ней что-то немного меланхоличное, она будто взывала к кому-то или чему-то вне досягаемости; а машины продолжали величественно разваливаться на части, будто решительно настроились открыть какую-то собственную правду. Домик был довольно убогим и выглядел грустным, и мы быстро поняли, что его нужно переделать, чтобы избавить его от этой ужасной, почти человеческой грусти. Внутри всё почернело от огня, и у мужчин возникла теория, что в нем окончил свои дни прежний хозяин. Поэтому они снесли дом и под руководством Тони построили новый.
Вы с Тони никогда не встречались, Джефферс, но думаю, вы бы поладили: он очень практичен, как и ты, не буржуазен и совсем не пренебрежителен, в отличие от большинства буржуа, которые насквозь пропитаны пренебрежением. Он не проявляет такой слабости, и ему даже не нужно чем-то пренебрегать, чтобы получить над этим власть. У него есть, однако, набор «убежденностей», которые исходят из его знаний и положения и которые могут быть очень полезными и даже успокаивать до тех пор, пока не выступишь против них! Я никогда не встречала человека, который был бы так мало обременен стыдом, как Тони, и так мало склонен вызывать чувство стыда в других. Он не делает замечаний и не критикует, и на фоне большинства людей это создает эффект океана молчания. Иногда его молчание заставляет меня чувствовать себя невидимой, не для него, а для себя самой, потому что, как я уже говорила, меня критиковали всю жизнь, и это дает мне понять, что я существую. Но поскольку я одна из его «убежденностей», ему трудно поверить, что я могу сомневаться в собственном существовании. «Ты просишь меня критиковать тебя», – говорит он мне иногда после очередной моей вспышки. И на этом всё!
Я рассказываю тебе это, Джефферс, потому что это имеет отношение к строительству второго места и к тому, для чего мы решили его использовать – а именно в качестве пристанища для того, чего здесь пока не было, для чего-то более возвышенного, или так я представляла, что появилось в моей жизни и так или иначе стало мне дорого. Я не имею в виду, что мы планировали основать какое-то сообщество или утопию. Просто Тони понял, что у меня есть свои интересы, и то, что он доволен нашей жизнью на болоте, автоматически не означает, что и я тоже. Мне было нужно хоть немного соприкасаться с понятиями искусства и общаться с людьми, которые живут этими понятиями. И эти люди действительно приезжали, и мы общались, хотя всегда казалось, что им больше нравился Тони, чем я!
Когда люди женятся молодыми, Джефферс, их брак вырастает из общего корня молодости, и становится невозможно отличить, где ты, а где другой человек. Так что при попытке отделиться друг от друга разрыв пройдет от корней до самых концов веток, и в результате этого мучительного процесса ты лишишься половины того, чем был раньше. Но когда вступаешь в брак позже, это больше похоже на встречу двух личностей, сформировавшихся независимо: вы сталкиваетесь друг с другом, как сталкиваются и в течение геологической эпохи сливаются целые массивы суши, а большие величественные швы горных хребтов становятся свидетельством этого слияния. Это не столько органический процесс, сколько пространственное событие, внешнее проявление. Люди могли жить внутри нашей семьи и так близко ко мне и Тони, как никогда бы не смогли обжить темное ядро – живое или мертвое – традиционного брака. В наших отношениях было много открытости, но это создавало и определенные трудности, естественные трудности, которые нужно было преодолеть: чтобы добраться друг до друга, приходилось строить мосты и пробуривать тоннели. Второе место было одним из таких мостов, перекинутым через молчаливость Тони, как через реку.
Второе место стоит на пологом склоне, выше главного дома, и отделено от него пролеском, через который в наши окна каждый день пробивается утреннее солнце; и через него же оно светит на закате в окна второго места. Окна там идут от пола до потолка, так что огромная горизонтальная полоса болота и его жизнь – пространства цвета и света, скопления грозовых туч, огромные стаи морских птиц, которые парят в вышине или опускаются на его шкуру белыми пятнышками, море, которое бушует белой пеной на самой дальней линии горизонта, а иногда надвигается, безмолвно поблескивая, пока не покроет всё стеклянным листом воды, – кажется, всё это в одной комнате с тобой.
Окна были одной из «убежденностей» Тони, а я была против с самого начала, потому что считаю, что дома должно быть в первую очередь уютно, чтобы в нем можно было забыть о том, что снаружи. Отсутствие уединения беспокоило меня, особенно ночью, когда включен свет и приходится всё время напоминать себе, что ты у всех на виду. Я и сама сильно боюсь смотреть на людей, когда они не знают, что на них смотрят, и узнавать о них то, что предпочла бы не знать! Но для Тони вид из окна имеет своего рода духовное значение, это не то, что ты описываешь или о чем рассказываешь, а то, в соответствии с чем живешь, так что сам вид наблюдает за тобой и включается во всё, чем ты занимаешься. Я часто вижу, как он делает паузу, когда колет дрова или возится с овощами, ненадолго поднимает глаза и окидывает взглядом пейзаж, а затем возвращается к своим делам; так что мы едим болото вместе с овощами и греемся вместе с ним вечером у камина.
Тони не стал слушать меня по поводу окон и даже притворялся, будто не слышит, и после, когда я поднимала эту тему и жаловалась, как много неудобств доставляют окна, он молча давал мне высказаться и говорил: «Мне они нравятся». Думаю, всё же он признавал, что мог быть неправ. Когда к нам приехал первый гость, музыкант, который пытался записать и воспроизвести пение птиц и который превратил весь дом в студию, заваленную большими черными коробками, какими-то невероятными пультами и мигающими лампами, я решила принести ему почту и, пробираясь между деревьями, увидела в окно, как он совершенно голый стоит у плиты и жарит яйца! Я бы тихонечко вернулась назад, но он заметил меня в тот же момент, что и я его, так что пришлось подойти к двери и отдать ему, догола раздетому, почту, так как он явно решил делать вид, что ничего необычного не произошло.
А возможно, ничего и не произошло, Джефферс, – возможно, в мире полно таких людей, как Тони и этот мужчина, которые считают, что нет ничего такого в том, чтобы смотреть на других или быть у всех на виду, хоть в одежде, хоть без!
После этого случая мне разрешили повесить занавески, и я очень гордилась красивыми занавесками из бледного плотного льна, хотя знала, что Тони они раздражали. Полы были сделаны из широких каштановых досок, которые мужчины сами нарезали и отшлифовали, стены покрыты белой известковой штукатуркой, а все шкафы и полки были из того же каштана, так что пространство казалось очень теплым и натуральным, всё красивое, и фактурное, и душистое, а вовсе не стерильное и безликое, как бывает в некоторых домах после ремонта. Мы сделали одну большую комнату с плитой и камином, куда поставили удобные стулья и длинный деревянный стол, чтобы есть и работать за ним; а также маленькую спальню и ванную комнату с хорошей старой чугунной ванной, которую я нашла на барахолке. Всё выглядело так свежо и красиво, что мне хотелось самой туда переехать. Когда всё было готово, Тони сказал:
– Джастина решит, что мы построили этот дом для нее.
Не могу сказать, что не думала о том, как отреагирует моя дочь, но мне уж точно не приходило в голову, что она может подумать, что это в ее честь! Хотя, как только Тони это сказал, я поняла, что так и есть, и мгновенно почувствовала себя виноватой, но тут же твердо решила, что не дам ничего у меня украсть. Эти два чувства, всегда идущие парой, чтобы уж наверняка оглушить меня и связать мне руки, мучили меня с самого начала, когда Джастина только появилась на свет и, казалось, хотела занять мое место, только я пришла туда первая. Я не могла примириться с тем фактом, что, только оправившись от собственного детства, наконец выбравшись из этой ямы и впервые ощутив на лице лучи солнца, ты должен уступить это место под солнцем младенцу, которого намерен оградить от тех страданий, что достались тебе, а для этого надо залезть в новую яму – яму самопожертвования! В то время Джастина только окончила колледж и отправилась работать в Берлин, но часто приезжала в гости с каким-то потерянным видом, как будто испытывала острую потребность в чем-то, как человек, который ищет, где бы сесть, пока ждет поезда на людной станции. Какое бы хорошее место я ей ни находила, ей всегда больше нравилось мое. Я стала думать, не предложить ли ей второе место, чтобы сразу покончить с этим, но так вышло, что она влюбилась в некоего Курта и тем летом совсем не приезжала, и так началась наша новая жизнь, и мы стали приглашать к себе гостей.
В своем письме к Л я, разумеется, не стала вдаваться во все эти подробности и написала только о том, что, мне казалось, ему нужно знать. Несколько недель он не отвечал, жизнь шла своим чередом, а затем вдруг написал, что приедет, причем уже в следующем месяце! К счастью, в это время мы с Тони не ждали гостей, так что начали суетиться: перекрашивать стены, заново натирать воском полы, отмывать до блеска окна с помощью газеты и уксуса. На вишневых деревьях распустились первые бутоны, пролесок был полон прекрасных розовых и белых цветов, и мы срезали несколько веток, поставили их в большие глиняные кувшины и даже развели огонь в камине. От мытья окон у меня болели руки, и мы ложились спать настолько уставшими, что у нас почти не было сил приготовить себе еду.
Потом Л написал снова:
М,
Всё-таки я решил поехать в другое место. У одного моего знакомого есть остров, где, как он говорит, я могу пожить. На этом острове, судя по всему, настоящий рай. Так что я собираюсь побыть Робинзоном Крузо. Жаль, что не смогу приехать к вам на болото. Я продолжаю встречать людей, которые знают вас и говорят, что вы вполне ничего.
Л
Что ж, мы смирились, Джефферс, хотя не скажу, что я забыла об этом – лето оказалось самым жарким и прекрасным за последние годы, по вечерам мы жгли костры, спали на улице под пульсирующим звездами небом, плавали в приливных реках, и я постоянно думала о том, что было бы, будь с нами Л, и как бы он смотрел на всё это. Вместо Л во втором месте остановился писатель, и мы почти его не видели. Он проводил все дни в доме с зашторенными окнами, даже в самую жаркую погоду, – наверное, спал! Но я часто думала об Л и о том, каков этот рай у него на острове, и, хотя наш собственный дом тем летом был вполне похож на рай, я думала об этом острове с завистью. Как будто до меня доносился бриз, несущий с собой мучительный запах свободы, – и вдруг мне показалось, что эта мука не давала мне покоя слишком долго. Я почувствовала, что всё разрушила, и стала бегать туда-сюда в поисках этой свободы, как укушенный пчелой человек, который бегает и рвет на себе одежду, демонстрируя свою боль другим людям, которые не знают, в чем дело. Я пыталась заставить Тони говорить со мной – я ощущала острую потребность высказаться, проанализировать свои чувства, достать их на поверхность, где я могла бы осознать их и разобраться с ними. Как-то вечером, когда мы ложились спать, я в ярости наговорила Тони множество ужасных вещей о том, как мне одиноко и как я устала от того, что он никогда не уделяет мне такого внимания, которое заставляет женщину чувствовать себя женщиной, а просто ожидает, что я буду всё время рождаться заново, как Венера из раковины. Будто бы я знаю, что заставляет женщину чувствовать себя женщиной! В конце концов я ушла спать на диван вниз, стала думать о своих словах и о том, что Тони никогда не пытался причинить мне боль или контролировать меня, и в итоге снова побежала наверх, залезла к нему в кровать и сказала:
– Тони, прости, что наговорила тебе все эти ужасные вещи. Я знаю, как хорошо ты относишься ко мне, и не хочу тебя ранить. Просто иногда мне нужно говорить, чтобы чувствовать себя реальной, и я бы хотела, чтобы ты говорил со мной.
Он молча лежал в темноте и смотрел в потолок. Потом сказал:
– Я чувствую, что мое сердце постоянно разговаривает с тобой.
Вот так-то, Джефферс! Тони и правда считает разговоры и сплетни ядом, и это одна из причин, по которой он так нравится нашим гостям: он действует как своего рода противоядие от их привычки отравлять себя и других, и они чувствуют себя намного лучше. Но для меня всё же существует здоровый разговор, пусть это и редкость, – разговор, в котором люди создают себя через высказывания. Такие беседы часто бывали у меня с художниками и другими людьми, приезжавшими к нам на болото, хотя они были вполне способны и на ядовитые разговоры и нередко их заводили. Но я не возражала, так как у нас было достаточно возможностей для сочувствия друг другу, преодоления самих себя и единения посредством языка.
Осенью я, к своему удивлению, получила еще одно письмо от Л:
М,
В общем, рай не оправдал ожиданий. Я устал от этого песка. Вдобавок мне в порез попала инфекция. Меня эвакуировали на гидросамолете и доставили в больницу. Шесть недель в больнице, время потрачено впустую. Жизнь проходила за окнами. Теперь я еду в Рио, у меня там выставка. Я никогда не был в этой части света, но, похоже, будет весело. Возможно, останусь на зиму.
Л
Только я немного успокоилась, а теперь начала день и ночь представлять Рио-де-Жанейро, жаркий и шумный, распутный и полный разнузданного веселья! Пошли дожди, деревья оголились, и над болотом застонал зимний ветер. Иногда я доставала каталог работ Л, смотрела на картины и испытывала то же ощущение, которое они всегда во мне вызывали. Конечно же, наши мысли и чувства занимал миллион других вещей и происшествий, но здесь меня волнуют мои взаимоотношения с Л, и я хочу показать тебе, какими они были. Я не хочу произвести впечатление, что думала о нем больше, чем на самом деле. Мысли о нем – а на самом деле о его работе – были цикличны, как стремление к самоопределению. Они начали определять мое одинокое «я» и снабдили его своего рода непрерывностью.
Тем не менее я почти уже отказалась от надежды, что Л приедет туда, где я, и посмотрит на всё собственными глазами, и это наконец завершит мое самоопределение и даст мне – или так я, по крайней мере, верила – ту свободу, о которой я мечтала всю жизнь. Он написал мне пару раз зимой, рассказывая обо всём, что делает в Рио, а однажды даже пригласил меня туда приехать! Но я не собиралась ехать ни в Рио, ни куда бы то ни было, и письмо рассердило меня, потому что выставляло меня заурядной, а также потому, что его тон заставил меня скрывать его от Тони. Думаю, это означало, что он почему-то боялся меня и, обращаясь со мной так, как, видимо, привык обращаться с другими женщинами, он пытался снова почувствовать опору под ногами.
События той зимы всем известны, так что нет нужды повторяться, разве что следует сказать, что мы ощутили их влияние в меньшей степени, чем большинство людей. Мы к тому времени уже упростили нашу жизнь, но для других процесс упрощения был жестоким и мучительным. Единственное, что меня действительно выводило из себя, так это то, что теперь стало сложно куда-то поехать – и ведь не то чтобы мы часто куда-то ездили! Но я тем не менее чувствовала потерю этой свободы. Ты знаешь, Джефферс, что у меня нет своей страны и толком нет чувства принадлежности ни к какому месту, так что вместе с осознанием, что я никуда не могу выбраться, возникло ощущение, что я в заточении. Также из-за этих событий людям стало сложнее приезжать к нам, но к тому времени Джастина была вынуждена вернуться из Берлина и привезла с собой Курта, так что мы отдали им второе место, как это было решено изначально.
Весной я получила письмо.
М,
Все будто сошли с ума. Может, у вас всё иначе. Но у меня всё брюхом кверху, как любит выражаться мой английский друг. Вся ценность отовсюду стерта, как слой накипи. Я лишился дома, а также участка за городом. Впрочем, я всегда чувствовал, что они мне не принадлежат. На днях я услышал, как кто-то на улице сказал, что эта глобальная свистопляска полностью изменит характер Бруклина. Ха-ха!
К вам еще можно? Думаю, я смогу до вас добраться. Я знаю как. Надо ли мне платить за проживание?
Л
Так как отчасти это история о желаниях и последствиях их изъявления, ты заметишь, Джефферс, что всё, чего я пожелала, в итоге произошло, но не так, как я хотела! Думаю, вот в чем разница между художником и обычным человеком: художник может создать во внешнем мире точную копию своих идей. Остальные просто создают что-то невнятное или безнадежно деревянное, какой бы блестящей ни была идея. Это не значит, что у каждого из нас нет той сферы, в которой он мог бы реализовать себя инстинктивно, прыгнуть не глядя, но создать нечто способное просуществовать долго – достижение совсем иного порядка. Ближе всего большинство людей подходят к нему, когда заводят ребенка. И тогда-то наши ошибки и ограничения проявляются отчетливее всего!
Я села за стол с Джастиной и Куртом, объяснила, что случилось, и сказала, что им всё-таки придется переехать в большой дом. Джастина, разумеется, хотела знать, почему Л не может жить с нами. Я и сама не знала до конца почему, но одна только мысль об этом – о том, что я, Тони и Л будем жить в непосредственной близости, – заставляла меня съежиться, как, впрочем, и попытка объяснить Джастине, почему это невозможно. Я ощутила себя старой, старше самого древнего памятника – вот такое ощущение вызывают в нас дети, когда мы еще время от времени позволяем себе собственное уникальное чувство. В такие моменты меня подводит язык, тот родительский язык, который я давно забросила, так что он стал похож на ржавый двигатель, который не заводится, когда нужно. В тот момент я не хотела быть ничьим родителем!
Неожиданно на помощь пришел Курт. Я особо не разговаривала с ним до этого момента, полагая, что меня не касается, кто он и что собой представляет, хотя каким-то образом он постоянно давал понять, что думает совершенно не то, что говорит, и мне это как-то не слишком нравилось. Мне казалось, что не стоит так гордиться тем, насколько это несовпадение очевидно. Он был довольно худым и изящным, элегантно одевался, и что-то птичье было в его длинной хрупкой шее, носе, похожем на клюв, и в великолепном наряде. Он повернулся к Джастине и, по-птичьи склонив голову набок, сказал:
– Джастина, они не могут жить в одном доме с совершенно незнакомым человеком.
Это было благородно с его стороны, учитывая, что он сам был совершенно незнакомым человеком, и я обрадовалась, что он сформулировал то, что думала я сама, – это позволило мне снова почувствовать себя в здравом уме. И Джастина, золотце, подумала с минуту и послушно согласилась, что, пожалуй, так и есть, так что благовоспитанность Курта даже оказала неожиданное воздействие на моего собственного ребенка – я осталась под впечатлением. Если бы только на его лице не было этого угодливого, фальшивого выражения.
Мы получили еще одно короткое письмо от Л, в котором он подтвердил свои планы и указал дату приезда. Так что мы с Тони стали готовить второе место, хоть и верили в приезд Л уже немного меньше, так как принять гостя нам тогда казалось большой удачей. Вишневые деревья в пролеске были покрыты розово-белой пеленой, высоко среди стволов стояли копья весеннего солнечного света, повсюду раздавалось пение птиц; мы работали и говорили, что с того момента, как мы в первый раз готовили дом для Л и так простодушно ждали его, прошел почти год. Тони признался, что с тех пор он уже и сам пожелал приезда Л, и я не могла бы удивиться сильнее и осознать еще отчетливее, что любовь – это фатальная слабость, потому что Тони не тот, кто легкомысленно вмешивается в ход вещей, зная, что брать на себя работу судьбы – значит нести полную ответственность за последствия.
Одна почему причин, так сложно рассказать о том, что случилось, Джефферс, состоит в том, что рассказ следует за событием. Это может показаться слишком очевидным и потому глупым, но я часто думаю, что можно столько же сказать о том, что, по твоим предположениям, должно было случиться, сколько о том, что в действительности случилось. И всё же, в отличие от дьявола, эти ожидания не всегда оставляют глубокий след: от них избавляются в тот момент, когда с ними расстаются в жизни. Если я постараюсь, то смогу вспомнить, чего ожидала от встречи с Л, каково, как мне тогда казалось, будет находиться рядом и жить бок о бок с ним. Я почему-то представляла себе это в темных тонах, возможно, потому, что в его картинах их очень много и что черный цвет у него, как ни странно, выглядит энергично и радостно. А еще в эти несколько недель я, кажется, размышляла об ужасных годах до встречи с Тони, о которых в последнее время уже не так часто вспоминала. Те годы начались, так сказать, с картин Л и моего лихорадочного знакомства с ними в то солнечное утро в Париже. Было ли это величественным завершением периода зла, знаком того, что теперь я полностью восстановилась?
Эти чувства побудили меня за несколько дней до приезда Л поговорить с Джастиной о том, что произошло, куда откровенней, чем когда-либо. Не то чтобы родительская откровенность многое гарантирует! По-моему, дети, как правило, безразличны к родительским признаниям и уже давно составили собственное мнение или сформулировали ложные убеждения, от которых уже не отрекутся, так как на них основана вся их концепция реальности. Я могу принять все попытки сознательно отрицать очевидное, самообман и желание в кругу семьи называть черное белым, потому что на этом волоске висит наша вера в себя. Другими словами, Джастина не могла позволить себе знать определенные вещи и поэтому запрещала себе узнавать о них, даже несмотря на то, что сосуществующие в ней побуждения – быть постоянно рядом со мной и не доверять мне – всегда противоречили друг другу.
Я никогда не испытывала потребности быть правой, Джефферс, или выигрывать, и я очень нескоро осознала, какой белой вороной это меня делает, особенно в сфере родительства, где самомнение – будь оно нарциссического или жертвенного типа – стоит во главе всего. Иногда я чувствовала, будто на том месте, где должно быть самомнение, у меня только огромная пустота авторитета. Мое отношение к Джастине было более или менее типичным для меня: его диктовала упрямая вера в то, что истина в какой-то момент восторжествует. Проблема в том, что это может занять всю жизнь. Когда Джастина была маленькая, в наших отношениях было ощущение пластичности, движения, но сейчас, когда она стала молодой женщиной, время будто внезапно истекло, и мы замерли в тех позах, в которых оказались в момент его остановки, как в игре, где участники двигаются позади ведущего и застывают на месте, когда он оборачивается. Вот она, воплощение моей жизненной силы, не подверженная дальнейшим изменениям; а вот я, которая не в силах объяснить ей, как именно она получилась такой, какая есть.
Ее отношения с Куртом, однако, позволили мне посмотреть на Джастину под другим углом зрения. Я уже говорила, что Курт вел себя со мной так, будто всё обо мне знает, и я решила, что он исходит из всего того, что Джастина рассказала ему и чего он не имел права знать. Сначала он и к Тони относился как к особенному экземпляру, своего рода экзотическому пришельцу, и имел раздражающую привычку слегка улыбаться, когда смотрел, как Тони занимается своими делами. Тони отвечал тем, что сдавал карты мужественности и вынуждал Курта их брать.