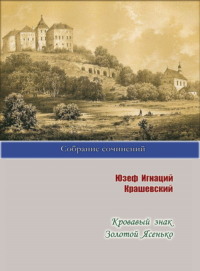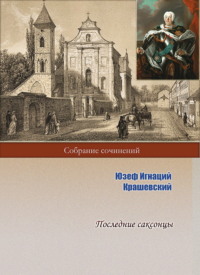Полная версия
Семко
Миновав несколько таких групп, когда уже хорошо рассвело, на расстоянии мили от Вислицы он наткнулся на чей-то более или менее приличный кортеж, но такой же беспанский, как и другие. Им командовал только старший придворный, под хмельком, как и другие, в чём легко можно было убедиться из того, что во всё горло пел непристойные песни. Бобрек, поехав за ними, прислушивался, улыбался и, казалось, только и ждёт возможности познакомиться с ними ближе. Старший, который ехал с другими около повозок, здоровый, сухой молодчик, с красным носом и рубиновыми щеками, с длинными опущенными усами, имел лицо добродушное и глуповатое. Возможно, именно это притягивало к нему Бобрека.
Около первой корчёмки поющие остановились, утверждая, что у них уже пересохло в горле, хотя в Вислице их хорошо увлажнили. Остановился с ними и Бобрек, и тут, когда старший, не слезая с лошади, приказал принести ему пива, путнику удалось вступить с ним в беседу.
Он начал жаловаться, что архиепископ, который был в то же время и пробощем костёла Св. Флориана, отправил его в Краков одного, а грусто ему совершать путешествие без компании.
– Если вам не срочней, чем нам, – сказал старший добродушно, – присоединяйтесь к нам.
За это Бобрек очень униженно поблагодарил и принял милость с благодарностью, сразу не давая себя узнать. Но как солгал, что его послал архиепископ, так и имя придумал, дав себе первое попавшееся.
Старший же с красным носом похвалился ему, что принадлежит ко двору пана краковского Добеслава из Курозвек, а имя у него было Ендрек из Гройна.
Когда освежили горло пивом и двинулись дальше, этот посол архиепископа так умел развлечь старого придворного весёлым разговором, что, если бы он сам хотел от него отстать на полдня, наверно, не отпустил бы его.
Вскоре поняв, с кем имел дело, он выбрал и предмет беседы, и манеру выражения такие подходящие для того, чтобы заинтересовать слушателя, что Ендрек, постоянно смеясь, вёл своего коня как можно ближе к кляче Бобрка, чтобы не потерять ни слова. Так же как в Плоцке он набожно молился с ксендзем-канцлером, как мог справиться с Пелчем, по дороге – с рыбаками, в Вислице – со шляхтой и Домаратом, здесь тоже легко снискал расположение придворного краковского пана.
Они говорили о многих вещах и всегда на удивление друг с другом соглашались. Бобрек попадал на воззрение старика, угадывал его, и когда они прибыли на ночлег, и клеха, постаравшись найти крепкий мёд, поставил его добрую меру перед Ендреком, они так сдружились, что Бобрек что угодно мог вытянуть изо рта.
Он узнал от него, что свою свиту пан краковский не случайно отправил вперёд, а потому что Ендрек вёз в письме войту и бурмистрам какие-то приказы, а другие – коменданту замка.
– Если бы я умел читать… – прибавил весело Бобрек, – было бы весьма любопытно узнать, что там написано, но это не наше дело – вынюхивать письма.
– И не читая, я знаю что написано, – ответил Ендрек, – пан поручает не что иное как бдительность, послушание и верность.
– Кому? – спросил со смехом Бобрек. – Ведь у нас до сих пор пана нет, и даже пани. Хотел править Люксембург, но, видимо, его не хотят. Неизвестно, которую из дочек даст королева и назначит. Кого же тут слушать?
– Того, кто пан в Кракове, нашего Добеслава, – сказал старик. – Он никому не отдаст города, покуда конца не будет. Из того, что он мне самому поручил, я догадываюсь о причине, по которой он отправил меня в город первым, – чтобы приказать никого туда не впускать.
– Всё-таки, когда пан Сигизмунд поедет в Венгрию, ему не откажут в Кракове в ночлеге, – сказал Бобрек.
Ендрек пожал плечами.
– Равзе я знаю! – сказал он равнодушно. – Это не моё дело. В город можно, а в замок ему войти не дадут, это определённо.
Бобрек так равнодушно слушал, точно это совсем его не интересовало, потом пили мёд, рассказывали друг другу разные и весёлые истории о клириках, о панах, о женщинах; Бобрек их очень много знал, а так их одновременно серьёзно и смешно рассказывал, подражая лицам и голосам людей, что Ендрек из Гройна за бока держался, слушая, и хотя некоторые повести знал, они показались ему новыми.
Перед полуночью, велев принести себе соломы, он легли спать. Ендрек, уставший от езды и после мёда, в котором было много хмеля, крепко заснул и пробудился только тогда, когда в комнате утром разожгли огонь.
Он очень удивился, увидев рядом пустое место, и что его спутник исчез. Он думал, что тот пошёл осматривать коня, и не скоро узнал от своих, что тот весёлый бродяга, рассказывая о чём-то срочном по дороге, рано утром выехал дальше один.
Он грустил по нему, особенно потому, что они даже не попрощались, а потом на дороге в Краков нигде его встретить и найти не могли.
Бобрек так хорошо накормил своего коня, что на десять часов опередил медленно плетущиеся возы краковского пана, а назвавшись в воротах собственным придворным пана Добеслава, беспрепятственно въехал в город и направился к давно ему известному постоялому двору на Гродзкой улице, к Бениашу из Торуни.
Тот Бениаш был чистокровным немцем, недавно там поселившимся и принятым в мещанство, обильно заплативший за то, что его зачислили к купцам. А оттого, что деньгами при уме везде всё легко делается, пришелец же был человеком мягким, разговорчивым, на деньги не скупым, и говорил, точно собирался там открыть большую торговлю всякой всячиной, – приобрёл большую популярность и уважение.
Однако до сих пор его обещанная торговля из-за разных мнимых помех не открывалась. Бениаш только часто ездил, неизвестно куда, к нему приезжали люди с разных сторон, все немцы, просиживали. Было много болтовни, а товары всегда в дороге.
На образ его жизни мало кто обращал внимания, потому что никому не вредило, что богатый человек наслаждался жизнью. А везде его было полно: в ратуше, в Свидницкой пивнушке, на рынке, среди советников и урядников. Говорили о нём, что был любопытен и лишь бы чем любил развлекаться.
Он выглядел очень серьёзно, лицо имел красиво закруглённое, румяное, глаза весёлые, губы свежие, зубы белые, брюшко приличное и одевался очень богато, изящно, по-заморски. Он называл себя вдовцом, а хозяйничали у него всегда молодые хозяйки и несколько недурных девушек, которые прислуживали гостям, что пребывание у него делало весьма приятным. Словом, человек был хоть к ране приложи, благодетельный, добродушный, сердечный и послушный.
Хотя он жил там уже несколько лет, польский язык выучил мало, старался только о том, чтобы понять то, что слышал, но в те времена в Кракове было столько немцев, а язык их был так распространён среди мещанства, что он легко обходился без польского.
Как только увидел въезжающего в свои ворота Бобрка, хозяин тотчас к нему выбежал, велел батраку взять коня и проводил в каморку. Они коротко поздоровались и, даже не присев, стали болтать по-немецки. Срочное дело, с которым был выслан Бобрек, так их горячо занимало, что прежде чем клеха снял кожух, а хозяин подумал о его приёме, они с час шептались, спорили, советовались, пожимая плечами, потирая волосы. Бениаш казался удручённым, Бобрек настаивал. Не скоро заметили, что опускалась ночь.
Только тогда хозяин подумал о еде, позвал слуг. Бобрек так по-дружески с ними поздоровался, а они с ним так заискивающе, словно он бывал там частым гостем. Принимали его тем, что только было в доме наилучшее. Однако, заключая из фигуры и лица Бениаша, можно было догадаться, что то, с чем приехал посланец, его необычайно беспокоило. Он хмурился, задумывался и постоянно что-то бросал Бобрку в ухо, который, возложив всё на него, уже излишне не тревожился.
Назавтра Бобрек ещё спал, когда Бениаш уже был в городе и до обеда не возвратился. С ним вместе пришли: один мещанин необычайно маленького роста, с рыжими волосами, другой высокий, худой человек, одетый по-солдатски.
Слегка поздоровавшись, хоть на стол несли тарелки, все вместе пошли в угол, встали в кружок и очень оживлённо стали беседовать, но так тихо, что только сами себя могли слышать и понимать. Бобрек им что-то очень долго выкладывал, выразительно жестикулируя, уже будто бы считая на ладони деньги, то махая руками, как бы рубил мечом, кланяясь и надуваясь попеременно. Солдат на это пожимал плечами, показывал в сторону замка, потом на собственное горло, наконец опустил руки, поник головой и прибавил:
– Нельзя!
Маленький рыжий мещанин с писклявым голосом, крутясь вокруг, скача перед глазами то у одного, то у другого, метался, выкрикивал, бросался, а закончил, как солдат, расставив руки и делая отчаянное выражение лица.
Тарелки с полевкой остыли, когда, наконец, они сели к столу. Оттого что служанки, женщины любопытные и долгоязычные, ходили и слушали, разговор был отрывистым и непонятным; они только о том легко могли догадаться, что Бобрек был разгневан, мрачен и упрекал. Несколько раз у него вырвалось слово трусы, за что солдат его сильно побранил, и чуть не дошло до ссоры, потому что нож поставил на столе остриём вверх, а серные глаза уставил на клирика. Затем как-то остыли, охота от дальнейшего фехтования словами отпала, много выпили и хозяин, который говорил мало, как сидел на скамье, так опёршись о стену, закрыл глаза, открыл рот и – начал храпеть.
Увидев это, гости взялись за шапки и, едва попрощавшись, вышли прочь. Бобрек был так зол, что даже девушек, улыбающихся ему, сбыл равнодушно, и, оставив хозяина, сморенного послеобеденным сном, занялся переодеванием. Достал из сумок одежду клирика, но чище и лучше, чем та, в которой выступал в Плоцке, более приличную меховую шапку, и, уже совсем переодевшись в священника, один отправился к замку в город.
Когда он потом, достаточно поздно, вернулся на постоялый двор, было заметно, что и эта миссия ему не удалась, потому что настроение вовсе не улучшилось.
Как мы знаем, ему было поручено способствовать тому, чтобы город отворил ворота прибывающему маркграфу, а, если удасться, чтобы и в замок пустили. Это могло произойти не специально, в результате медлительности, неожиданности.
Между тем никто не хотел на это решиться. Знали суровость каштеляна Добеслава, а его люди в этот день привезли в ратушу и замок приказы, чтобы за всеми воротами внимательно следили и никого не пускали.
В письмах, которые привёз Ендрек, отчётливо было написано, чтобы, не обращая внимания на то, кто прибудет, вооружённых людей, громадных лагерей, никаких и иностранных солдат мещане под страхом смерти не впускали. О замке, который, как во время войны, постоянно тщательно охраняли, даже нечего было думать. В воротах стояла сильная стража, никому не открывали. В своих же письмах, каштелян, по-видимому, даже по имени называл маркграфа, чтобы ему запретили въезд.
Бобрек пытался приобрести более смелых людей, чтобы споили стражу, оттащили и оставили ворота наполовину открытыми; готов был даже заплатить за это, но никто не хотел слушать, а те, которые предлагали себя, доверия не вызывали.
Слушая это, они покачивали головами, потому что по городу уже ходили слухи, якобы привезённые из Венгрии, что королева Елизавета изменила первое своё решение и искала зятя для принцессы Марии во Франции или Италии. Для Люксембурга места уже тут не было, и хотя он нравился немцам, они сами опасались сажать его на шею.
Духовенство, к которому направился Бобрек, рассчитывая на благосклонность знакомых ему каноников к королеве и Сигизмунду, тоже не очень торопилось с помощью, обиженное тем, что Люксембург в Зверинец назначил не Нанкера, а чеха, своего капеллана. На это брюзжали. Епископ, кандидат Радлица, ни во что вмешиваться не хотел. Был он любимцем и лекарем покойного Луи, преданным его семье, не Сигизмунду.
Бобрек заметил, что ему больше нечего там делать, и что нужно было с унижением, с плохой новостью возвращаться назад. Утешало только то, что денег осталось достаточно, а он даже не думал их возвращать.
Он колебался ещё, со дня на день откладывая отъезд, шляясь по городу, а между тем сам каштелян, поспешно, днём и ночью перемещаясь, прибыл из Вислицы и, как только остановился в Кракове, сразу удвоили стражу, и так уже многочисленную, ворота закрывали даже днём. Каждый, кто приезжал, должен был объявлять о себе.
Наконец Бениаш узнал в городе, что маркграф, предвидя, с чем он мог тут столкнуться, обогнул столицу, переправился под Вавринцами через Вислу и собирался отдохнуть в Неполомицах, откуда направлялся уже прямо в Бохну, в Новый Сонч и Венгрию.
Добеслав с краковскими панами, чтобы никого не пропустить, а дьяволу также зажечь свечку, так честно и сносно организовал путешествие Люксембургу, что, хоть он злился, а должен был кланяться и благодарить.
Поскольку шляхта со значительными отрядами, будто бы оказывая ему почтение, а на самом деле присматривая за ним, переступала ему дорогу, провожала маркграфа, кормила, желала счастливого пути, не отпуская ни на шаг от назначенного тракта до Бохны, до Нового Света и прямо до границы.
Довели его так прямо до границы и не успокоились, пока он и его копейщики не поехали к дому.
Напрасно потеряв в Кракове достаточно времени на выжидании, наконец Бобрек с помощью Бениаша, найдя себе товарищей для путешествия, надел старую сутану и епанчу, чтобы вернуться в Великопольшу.
Он не спешил показаться Домарату с пустыми руками и не слишком торопился по дороге, тут и там останавливаясь в Силезии, осматриваясь и расспрашивая. Прежде чем он доехал до Познани, отовсюду доходили слухи, что Домарат, не испуганный отступлением Сигизмунда и вислицкими постановлениями, готовился к упорной борьбе со шляхтой, возмущённой против него.
Там тракты были не очень безопасны, а Бобрек, избегая побоев, весьма осторожно и попеременно называл себя коренным Наленчем, а другим – Грималой чистой крови. Он же был столь дальновиден, что всегда, прежде чем признавался, кем был, пронюхивал, с кем имел дело.
Чем ближе Познань, тем горячей там было. Сновало множество вооружённых людей. Повсюду видны были следы кровавых стычек, сожжённые дворы, опустошённые деревни, опасные группы бродяг он встречал кадую минуту.
Он потихоньку проскользнул в замок, который ещё держал Домарат, выждав минуту, когда сможет появиться.
От знакомых ему придворных он слышал, что тот был раздражён, сердит, огорчён, а доступ к нему был опасен. Поэтому он забился в угол, присматриваясь к тому, что делалось. Каждую минуту прибывали и отъезжали посланцы. Все Грималы из деревень и безоружных уседеб шли под опеку Домарата; некоторые уже оборванные и покалеченные, едва ушедшие живыми. Царила ужасная неразбериха, но неукрощённый губернатор, с железным упорством готовый на всё, встал против своих врагов.
Сдаться, уступить, признать себя побеждённым он не думал. Он также знал, что не нашёл бы сострадания.
На другой день вечером, пользуясь минутой расположения, Бобрек попал в жилище Домарата, которое было больше похоже на арсенал, чем на господские комнаты.
Бедных и с уже содранными доспехами Грималов, потому что их много босиком и в рубашках убегало от рук Наленчей, нужно было снабдить одеждой и оружием.
Также грудами туда свозили и складывали в кучи первые попавшиеся панцири, бляхи, старые шлемы, мечи, обухи, палицы, что только удалось откуда-нибудь стянуть.
Домарат не спал, не ел, ходил в лихорадке, с запенившимися губами, выдавая приказы, угрожая смертью, виновных и невиновных посылая в темницы или под суд Яна Пламенчика, своего судьи, того Кровавого дьявола, которого знали и звали палачом. Этой суровостью, беспощадностью он хотел испугать, надеялся сломать сопротивление великополян, но очень ошибся. Практически вся шляхта поднялась против него.
Почти ежедневно приходили новости, что кто-то отпал и присоединился к лагерю Наленчей. Это не сменило ни решения, ни поведения Домарата, он угрожал только, что всю страну обратит в пепел и руины.
Именно в час такого сильного гнева, когда губернатор посылал приказы вооружаться до последнего человека, дрожа от злобы, потому что его деревню сожгли, Бобрек, думая, что найдёт его более или менее спокойным, появился перед разъярённым Домаратом. Он очень перепугался и остановился на пороге, как кающийся виновник, ожидающий приговора. Домарат, сначала даже не узнав его, подскочил и не опомнился, пока не увидел человек, склонившегося до колен.
– Я возвращаюсь ни с чем, милостивый господин! – сказал он тихо. – Но, Бог свидетель, не моя вина – было предательство! Я мчался сломя голову, а прибыл слишком поздно, – два коня пали.
Это безвозвратное прошлое, которое он отболел, уже не так лежало на сердце Домарата. Какое-то время он в остолбенении смотрел на него.
– Люди! Люди! Мне позарез нужны! – закричал он. – Слышишь, люди! К саксонцам, к Бранденбургу, к дьяволу готов послать, лишь бы кто-нибудь солдатами обеспечил! В Чехию уже послал. Ты сам наполовину немецкой крови, ты у них в фаворе! Отправляйся сразу и сделай на этот раз всё лучше.
Ему не хватило дыхания, он приложил руку к груди и воскликнул:
– Эта беднота, покрытая лохмотьями, думает, что возьмёт меня голыми руками. Я не сдамся, удержусь, не испугаюсь!..
Только договаривая эти слова, он заметил, что излишне доверился маленькому человеку; он нахмурился, вдруг прервавшись.
– Езжай сейчас же, не теряя времени… в Саксонию, к Бранденбургам, сколько они хотят за копейщика… я дам.
– Милостивый господин, – сладко, мягко, вкрадчивым голосом начал Бобрек, – разрешите сказать слово. Буду послушным, пойду, куда прикажете, но почему бы не обратиться к немецкому ордену? Они вам охотно послужат, а их копейщик стоит больше, чем иные; у них людей всегда достаточно; кнехтов пришлют.
– У них много дел с Литвой, – прервал резко Домарат, – мне срочно нужны солдаты. Жалкая шляхта, бегут от меня подлые предатели, но сниму с себя последнюю рубашку, а отомщу. Я заплачу обильное жалованье, всю добычу отдам, усадеб и замков не пожалею. Будет им чем наполнить мешки и вернутся домой не с пустыми руками.
Сказав это, он обеими руками схватился за голову.
– Люди мне нужны! Люди!
– Я пойду за ними, куда прикажете, – ответил спокойно Бобрек.
Тем временем Домарат кричал без остановки:
– Давай мне людей! Я должен защищаться! Меня к этому вынуждают. На меня собирают войско, против них я выставлю другое. Хотят, чтобы лилась кровь, она польётся ручьями. Они сжигают, я камня на камне не оставлю.
Казалось, этого фанатизма совсем не разделяет остывший клеха; он смотрел, слушал, может, рассчитывал, не сложит ли он голову, и кто тут будет сильнее, и что орден на этом приобретёт. Прежде чем он дождался дальнейших приказов, дверь не закрывалась, постоянно вбегали прибывшие с новостями, раненые, испуганные…
Чуть успокоившись, Домарат впадал в новую ярость – ему объявляли почти об одних поражениях.
Горели усадьбы и деревни Грималов, штурмовали их крепости, заплаканные женщины убегали с детьми на руках. Наленчи захватили огромную добычу, а тем временем войско стягивали со всей Великопольши, желая им захватить губернатора и вынудить сдаться.
В замке, несмотря на приготовления к обороне, царил страх, потому что город, опасаясь уничтожения, ворчал и угрожал, что сдастся Наленчам.
Хотя дороги были отрезаны, а по лесам были засады, на больших трактах же группами несли дозор Наленчи, – отряды Грималов продирались через леса, по бездорожью, и каждую минуту прибегали в замок, под опеку Домарата. Это был очень плохо вооружённый народ, из которого с трудом можно было выбрать способных для боя, а кормить было нужно всех.
Бобрек, о котором забыли среди этого шума, постоянно стоял у дверей и пользовался этим, потому что наслушался повестей о том, как обстояло дело Грималов. Хитрый клеха навострил уши, рассчитывая, как послужить двоим панам сразу.
Главным образом он хотел своим панам немецкого ордена дать со всего хороший отчёт. Он немного уже сообщил им из Вислицы, теперь собирался устно в Торуни и Мальборге рассказать, что делалось в соседней Польше. Домарат не мог ему дать более желанного поручения. Тот уже практически забыл о нём, озабоченный чем-то иным, когда после отъезда с горем пополам последних прибывших, он увидел у порога этого вездесущего, бедного клеху.
– Я жду, соизволите ли, ваша милость, дать письмо к магистру, или только устное посольство, – сказал, навязываясь, Бобрек.
– К магистру?! – резко подхватил Домарат. – Если бы мне нужны были деньги и был бы кусок земли, чтобы заложить, я не обратился бы ни к кому другому, только к ордену, но мне нужны люди!
– Люди, ну, и оружие! – добавил Бобрек. – Где же легче с любым оружием, как не у них? Целые сараи полны им, и ещё каким! И людей могут дать, таких, один из которых стоит десять здешних.
Домарат глубоко задумался.
– К магистру! К Бранденбургу, к дьяволу иди! – воскликнул он. – Я тебе повторяю: иди, куда глаза поведут, лишь бы привёл мне людей, иди!
Этой горячке Домарата клирик был обязан тем, что за Краков его не ругали, о сумме денег не спрашивали, а назавтра он получил письмо с печатью и новое пособие на дорогу.
Выезжая дальше в неспокойный край, Бобрек должен был хорошенько поразмыслить, в кого перевоплотиться. Ему показалось самым безопасным остаться тем, кем был, – бедным клириком. Эта одежда лучшего всего защищала от Наленчей и Грималов, а поскольку слуг и более богатых духовных лиц иногда раздевали, он должен был надеть довольно старую, поношенную сутану, жалкую шапку, рваную обувь, чтобы своей внешностью ни у кого не вызвать искушения.
Встретиться и поговорить с Домаратом уже было нельзя, поэтому, перекрестившись, поручив Богу собственную шкуру, морозным утром Бобрек, как горемычный бедняк, двинулся по большому тракту, бросая вызов всему, что могло его ожидать. Письма с печатками были мастерски зашиты в его ботинки, потому что в необходимости он и с бечёвкой умел обходиться.
VI
Решив сообщить своим господам немецкого ордена хорошую новость о смуте в Великопольше, хотя в то же время вёз и неблагоприятную о том, что случилось с любезным крестоносцам маркграфом, Бобрек направился в Плоцк, дабы поглядеть, что делалось с Семко. Ибо поговаривали, что он тоже готовился выступить с сильной армией, а великопольские паны собирались поддержать его дело.
Обо всём этом старейшины Тевтонского ордена должны быть отлично осведомлены, потому что из всего могли вытянуть для себя выгоду. Клирик знал, что будет у них желанным гостем, но запас новостей он хотел сделать как можно полнее.
Путешествие комфортным и удобным не было. Почти вся страна была в пламени, но чего было опасаться бедному, убогому клехе на ещё более бедной кляче?
Первый день путешествия прошёл так спокойно и был таким пустым, что для дальнейшей дороги он набрался мужества. Вокруг были видны только следы опустошения и совершённых набегов, людей встречал мало. Одни сбегали в замки и местечки, другие – в леса; даже некоторые постоялые дворы, где происходили бои, заваленные раздетыми трупами, стояли пустыми, потому что хозяева их покинули.
Днём справа и слева виден был дым, а ночью – зарева пожаров.
Кое-где он натыкался на следы лагерей неподалёку от тракта, их погасшие костры и мёртвых лошадей, над которыми кружились стаи воронов, а из леса направлялись к ним волки. Страшен был вид этого края, в котором не враг, а его собственные жители учинили такое опустошение!
Наленчей Бобрек нигде не встречал, а на другой день он встретил маленькую кучку Грималов, которая в тревоге пробиралась в Познань. Ведущий её старик остановил клеху для расспроса; тот заверил его, что Домарат хорошо приготовился к защите.
На привал ему в тот день пришлось остановиться в лесу, около бедной корчёмки, из трубы и крыши которой слегка дымилось, что, казалось, означает, что там всё-таки есть люди.
Открыв дверь, Бобрек в сумерках сначала никого не увидел, только бледный огонёк горел и шипел, потому что в него подложили мокрых веток. Только когда лучше рассмотрелся, увидел сидящего на полу человека и, ему показалось, что это был монах; он был в грубой рясе, перевязанной пояском из верёвки. На голову был натянут капюшон, а седая, редкая борода спадала ему на грудь.
Подойдя к нему, он с ним поздоровался, на что ему звучным и сильным голосом сидящий отвечал:
– Навеки.
Это был действительно монах святого Франциска.
– А хозяина тут нет? – спросил Бобрек.
– Как видите. Господь Бог тут хозяин, а я до сих пор единственный гость, – сказал старый монах, который держал в одной руке ломтик сухого хлеба, а в другой – соль, посыпал ею хлеб и ел.
Рядом с ним стоял маленький деревянный кубок с водой. И хотя в пустом постоялом дворе было невесело, казалось, что старый монах в очень хорошем настроении.
– Что же вы тут делаете, отец? – спросил Бобрек, ища место, где бы присесть.
– Вы видите, догадаться легко. Согласно уставу нашего святого отца, хожу за милостыней для конвента, а теперь меня отправили в Пиздры, так вот, я потихоньку туда направляюсь.