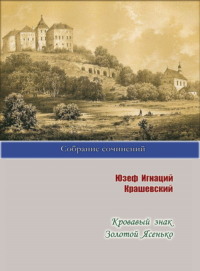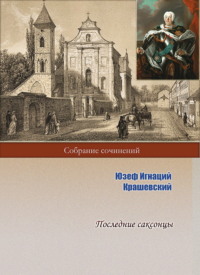Полная версия
Две королевы
Легкомысленных романов Дземма не понимала; любовь со стилетом в руке, с ядом в чарке, борящуюся и готовую на смерть…
Вскормленная итальянской поэзией, итальянскими песнями, которые говорили о любви как о важнейшей пружине жизни, Дземма верила в неё и ждала её.
Она пришла к ней в особе красивого, молодого, мечтательного королевича.
Август медленно вкрадывался к ней, как бы предчувствовал, что однажды завязанные отношения легко не развяжутся, но, приблизившись, узнав её лучше, нашёл в ней женщину своей мечты. Первые его романы были легкомысленные и детские, этот сразу показался трагично и именно этим манил к себе.
Боне казалось, что когда однажды Дземма станет не нужна, легко от неё отделается, как от других, выдав замуж; держала для этого готового, влюблённого, богатого Дудича, который был и достаточно слеп, и как следует влюблён.
Дземма смотрела теперь на него с презрением, но всё это должно было измениться, раз старая королева приказала.
Всегда достаточно избалованная Дземма теперь, когда должна была сердце сына оттянуть от молоденькой будущей королевы, и была для этого предназначена, с чрезвычайной заботой была охраняема королевой.
Это приводило её в гордость и укрепляло в том убеждении, что в будущем её ждала великая и прекрасная судьба.
Ничего не ускользало от глаз Боны, у которой повсюду были свои шпионы, поэтому знала о каждом шаге сына, о каждом слове сына. Дудич был пересажен со двора старого короля к молодому пану, чтобы и он доносил о нём. Это распоряжение им было довольно неловким, но Бона не понимала, что ей кто-нибудь мог бы сопротивляться… впрочем, Дземма после королевича была для Дудича ещё более дорогим сокровищем.
Комнаты молодого короля соединялись с ближайшими коридорами и комнатами королевы и её фрейлин. Дорога к Дземме была лёгкой и он мог не опасаться, что встретит незнакомца.
Сигизмунд Август жил здесь всегда в ожидании какой-нибудь перемены, потому что ему обещали выслать его в Литву, жил, словно в лагере; но до этого времени он должен был собрать около себя всё, что делало жизнь сносной.
Он любил всё красивое, поэтому покои были полны даров королевы и приобретений разного рода, интересных и отличающихся артистичным выполнением. Доспехи, которых он никогда почти не надевал, старательно тут сохранённые, были шедевром оружейника и золотых дел мастера. Шишаки, нагрудники, инкрустированные золотом, тысячами дукатов оплачивали для него.
Кроме того, собрание колец, гемм, медальонов, маленьких статуй представляло уже маленькую сокровищницу, которую молодой король страстно старался увеличить всё новыми приобритениями. Всё, что там находилось, должно было отличаться чем-то необычным. От кованых и золочёных шишаков до мечей, резными рукоятьями которых можно было восхищаться, как игрушкой, до ковров и конских попон всё сверкало по-настоящему королевской роскошью.
Закрытые шкатулки, шкафы с замками, резные сундуки из дерева, на столах завершали эту коллекцию, которой король привык забавляться и хвалиться ею перед близкими. В спальне и комнате рядом с ней столы были завалены книгами, спрятанными так, чтобы не каждый мог просматривать и знать, что читал королевич. Сюда не каждый имел доступ. Книги, привезённые из-за границы, в замечательных, хотя простых обложках из шкуры кабана, скапливались у спальни. Их содержание удивило бы любопытного исследователя, было таким чрезвычайно разнообразным.
Начиная с поэзии до теологических диспутов, до исторических исследований, было там всё, что в тогдашнее время занимало свет. Строго-настрого запрещённые сочинения немецких реформаторов, рассуждения Мелахтона, Роттердамского, Лютера рядом с пылкими политическими трактатами защитников католицизма. По закладкам и знакам даже видно было, что первые из них были внимательней читаемы.
Рядом с этим можно было найти итальянские, латинские поэты, книги об искусстве, описания стран, история государств, даже разговоры о волшебстве.
Сигизмунд читал всё или по крайней мере перелистывал так, чтобы чуждым ему ничего не было.
На дворе мало чувствовалось это течение полемичных идей, которые вели за собой борьбу за свободу совести.
Именно в эти годы царило какое-то внешнее затишье. Гамрат установил инквизицию. Сожгли старушку Мальхерову, многим духовным лицам пригрозили… тревога вызвала молчание. Но под этой тишиной легко было догадаться о проникающих тайно течениях, которые были тем более опасны, что меньше попадали в поле зрения.
Сигизмунд Старый был набожный, не будучи слишком ревностным; Бона молилась и обходилась с духовенством итальянским способом, прислуживаясь им и платя ему за это, но требуя послушания. С Римом она предпочитала быть в хороших отношениях, но чрезмерно его не уважала, а когда там не могла ввести, что хотела, бранилась и гневно вздрагивала.
Под таким влияниям воспитывался Сигизмунд Август, в делах религиозных скорее равнодушный и холодный, чем ревностный.
Только реформаторское движение в Германии, которое, как волна, билось о границы Польши и пробиралось сюда под самыми разнообразными фигурами, пробудило в молодом короле заинтересованность этой полемикой, которая его забавляла.
Лисманин, которого мы видели у королевы, хитрый итальянец, сидевший на двух стульях, а тайно благоприятствующий реформатам, приходил, осторожно изучая состояние ума короля, постепенно осваивая его с готовящимся великим переворотом в церкви.
Но, хотя молодой и энергичный, король так был в себе замкнут и осторожен, что никогда не показывал собеседнику, куда склонялись его симпатии.
Подобно тому, как интересовался этой пылкой теологией, Август охотно занимался музыкой, слушая её с удовольствием. Наконец была у него ещё расположенность к красивым лошадям, на которых садился не часто, но хотел, чтобы они у него были, и уже тогда он думал об их разведении и стадах.
Таким, каким был в то время молодой государь, можно было считать его многообещающим для будущего. Не по возрасту серьёзный, внимательный к каждому шагу, не поражающий никакими выходками, образованный, он обещал стать замечательным монархом.
Шляхта и польские паны предпочли бы, может, видеть его иным, более открытым, более рыцарского духа, менее осторожным итальянцем, но не могли отказать ему в зрелости не по возрасту и такте.
Он мало чем занимался, но это не было его виной – не тянули его к работе. Королева старалась убрать её от него, старый Сигизмунд также не призывал.
Всё же это были годы счастливой молодости для молодого короля… он мог мечтать, проводить время, как хотел, идти согласно своим склонностям и расположению, а если отец для него скупился и был суровым, то мать за это платила, стараясь приобрести сердце и доверие.
Дни проходили свободно. Часто несколько дней проходило, а Август почти не видел отца, приходил к нему на минуту, обменивались несколькими словами, и возвращался в свои или королевы апартаменты.
Зато Бона видела сына не раз, а по несколько раз в день, приглашала его к себе, старалась развлечь. С утра он скакал верхом, редко охотился, ел с родственниками или матерью, читал, разглядывал свои камни и медали, принимал тех, которых подобрала ему в товарищи мать. Все они отличались тем, что о делах государства, о политике не говорили с Августом. Он тоже мало ею занимался, либо по крайней мере не показывал, что это его притягивало. Но взгляд он имел быстрый, а школу молчания прошёл в детстве, и умел носить всебе самое большое бремя, не выдавая его тяжести.
В этот день королева застала его над книжкой, которую, быстро сложив и засунув между другими, нагромождёнными на столе, он вышел её встретить.
Нежность Боны к нему всегда была пылкой, точно он один был у неё. С дочками, кроме Изабеллы, она была суровой и неприступной, с Августом – сердечной.
Войдя, она пробежала взглядом по покою, чтобы по какому-нибудь малейшему признаку узнать расположение сына. Она нашла его грустным, поэтому пожелала быть весёлой… пыталась вытянуть какое-нибудь слово, но ничего узнать не могла. Рекомендовала ему придворного Дудича, расхваливая его как послушного слугу, – Август принял его равнодушно. Затем через какое-то время, пошептавшись ещё, она бежала назад в свои покои.
Чуть она вышла, Август, чувствуя себя уже свободным, поправил на себе чёрный итальянский костюм, и тихими шагами проскользнул через коридор к Дземме.
Она снова сидела так, как мы её видели, у окна маленькой своей комнатки, и лютня лежала при ней, и шитьё было в руках, хотя, казалось, им не занимается. Она повернула голову, когда дверь открылась, румянцем облилось её лицо, она встала, спеша навстречу королю, который бросился обнимать её и прижимать к груди.
В этом немом объятии прошло какое-то время. Они смотрели друг другу в глаза… Дземма и он, оба были грустными, но великое счастье иногда так специально черно одевается. Шептали в начале так, что сами едва могли слышать друг друга.
Дземма медленно пошла, ведя его за собой к креслу, а Август по старой привычке сел на подножку у её колен, глядя в красивые глаза.
– Ты здоровее сегодня, не правда ли? – шептал король. – Ты поверила, что тебе нет причин тревожиться?
– А! – прервала девушка, машинально одной рукой тянясь к лежащей поблизости лютне, а другой поправляя тёмные локоны волос короля. – Нет любви без тревоги! Каждый скупец дрожит за своё сокровище.
– Боязнь бы счастье отравила, если бы она всегда нас так мучила, – ответил Август. – Дорогих минут жалко отдавать ей в жертву.
– А эти минуты так коротки! – вздохнула Дземма. – Считанные! Увы!
Король сделал гримасу и взял её руку в ладонь.
– Не предсказывай худшего будущего, чем оно обещается, – начал он говорить. – Увы, даже королю нельзя жениться, так как жить должен не для себя, но для подданных, брак их сердца не связывает. Меня могут вынудить подать руку перед алтарём, но сердца моего никто силой не возьмёт… это тебе принадлежит.
– Надолго?
– Навсегда! – воскликнул Август. – Пока твоё для меня биться будет, прекрасная Дземма!
Её головка начала медленно покачиваться, а по губам маячила грустная улыбка.
– Я должна буду с ней делиться, – говорила она, – ненавижу эту женщину!
– Это ребёнок, – сказал Август, – забавлять её будет старый король, который, вероятно, очень любит племянницу… а меня заслонит мать, которая знает, что может сделать меня счастливым, и живёт только для меня.
Когда он это говорил, взгляды их встретились, Дземма сжала губы. Августу казалось, что в глазах её нашёл выражение сомнения и недоверия.
– Дземма! – воскликнул он. – Ты её не знаешь, ты о ней судишь по другим. Она всё делает для меня, и если подставляется людям, я этому причиной. С колыбели я помню её всегда такой нежной, такой для меня сердечной. Даже сёстрами пренебрегает.
Итальянка ничего не отвечала, но её взгляды не показывали, что была убеждена.
– И тобой, – прибавил король, – я обязан ей! Она, такая суровая с другими, нам оставляет свободу, нас опекает… любит тебя как собственного ребёнка.
Он поднял к ней голову, точно требовал ответа. Дземма ещё молчала, только вздохнула.
– Дай Боже, – отозвалась она после паузы, – чтобы это не изменилось. Я не раз видела королеву, переходящую от любви к ненависти так скоро, так резко.
– Никогда не без причины, – начал король, – её возмущает неблагодарность, не умеет простить измены… а мы на дворе, среди людей, которых осыпаем милостями, мы постоянно выставлены на неожиданные удары. Бона умеет быть по-королевски благодарной, но также и по-королевски наказывает.
Дземма содрогнулась от какого-то страха.
– Мы вдвоём, – продолжал дальше король, – нам, по крайней мере, нечего от неё опасаться, а мы ей всем обязаны. Она поклялась защищать меня от будущей супруги, жить с которой не буду вынужден.
– А старый король? – спросила Дземма.
– Отец ни на что не способен, когда королева сопротивляется, – говорил Август, – вынуждает его отступить и остаться нейтральным.
Итальянка долго думала, её лицо немного прояснилось.
– Говорят, что вас с нею, с нею, – начала она, с акцентом выговаривая последнее слово, – хотят отправить в Литву… А я! А меня?
Август покачал головой.
– Но нет, – сказал он, – король против этого, мать сумеет меня защитить. Литва издавна требует великого князя, но польские сенаторы опасаются отдельного правительства. Страны вроде бы объединённые постоянно раздваиваются… нужно избегать всего, что их разделяет.
– Что за жизнь! – поднимая руки и закрывая ими лицо, прервала итальянка. – Дрожу от мысли о её прибытии, об этой свадьбы, этой неволи! Я видела её портрет у королевы, она красивее и младше, чем я!
– Нет! – резко воскликнул Август. – Она не имеет ни красы твоей, ни души, трусливый ребёнок… Мать говорит, что она больна и что её слабость должна пробудить отвращение.
– Но почему ты меня вынуждаешь, – добавил он, – кормиться ужасным разговором? Зачем предвидеть? На что преждевременно поить себя горечью? Спой, помечтаем!
И он положил голову ей на колени.
– Нет, не время для песен! – отозвалась, отбросывая лютню, итальянка. – Я не могу петь, когда моё сердце сжимается.
Король не настаивал.
Он молча взял её белую руку и, целуя пальцы по-одному, так любовался, мечтал, улыбался. Дземма склонилась над его головой и оставила на ней поцелуй.
Они так были погружены друг в друга, что ни один из них не услышал, не заметил, как тихонько поднялась портьера у двери спальни и показалось лицо Боны с искрящимися глазами.
Королева долго смотрела на них с какой-то радостью, осторожно опустила портьеру и исчезла.
Дземма поднялась, Август встал, наполовину обнял её и пошли вместе постоять у окна, шепча неуловимые слова. Были то любовные клятвы. Казалось, что-то бдит над ними, в коридорах не было ни малейшего движения, от дальних комнат не доходил ни один шелест. Так они забылись надолго, надолго, и только входящая карлица пробудила их к жизни.
Король немедленно покинул комнату.
* * *В несчастливый час бедный Петрек Дудич поднял глаза и склонил своё сердце к итальянке. Ему казалось, что для бедной сироты, которая ничего, кроме милости королевы, не имела, его особа и богатство были чем-то очень заманчивым.
Карикатурной фигуры, Дудич, коего изысканные одежды делали ещё более отвратительным и смешным, на многие вещи был слеп… а чем больше он разогревал эту запоздавшую любовь, тем сильнее убеждался, что она должна приобрести для него прекрасную Дземму.
Доступ к ней, как к другим девушкам из фрауцимер, по правде говоря, встречал трудности и препятствия, но Петрек многие из них умел преодолеть подарками и деньгами.
Скупой, пока делал из соли состояние, теперь, влюблённый, он готов был на самые большие жертвы.
Верховный надзор над польскими фрейлинами королевы был в то время у вдовы охмистра, немолодой уже женщине, Клары Замехской. Этим местом она единственно была обязана тому, что, смолоду обращаясь в кругу мещан и итальянских купцов в Кракове, которых при Казимире туда достаточно наплывало, неплохо выучила итальянский язык.
Полная, тяжёлая, но здоровая и сильная Замехская ходила нахмурившись, делая суровый вид, стараясь понравиться королеве – но ни Бона полюбить её не могла, ни она – королеву.
Опасалась и ненавидела.
Но по той причине, что обычай требовал постоянных заверений в любви, верности, посвящении, охмистрина постоянно имела их на устах.
Дудич, который хорошо знал двор, не нашёл себе лучшего союзника, чем она. Он знал, что Замехская была жадная, – начал осыпать её подарками.
Крепкая баба отлично знала, о чём была речь, в душе смеялась над омерзительным модником… но не отталкивала его. В сближении с ним не было опасности, потому что у Дудича было некоторое расположение королевы.
Наконец, однажды вечером Петрек нашёл возможность поговорить с глазу на глаз со старой охмистриной.
– Ваша милость, – сказал он, – смейтесь надо мной, если хотите; может, скажете, что в старой печи дьявол горит, но чем я виноват, что имею глаза и сердце в груди. Я влюбился…
– В меня? – ответила, подбоченясь, Замехская.
Дудич начал смеяться и поцеловал ей руку.
– В Дземму, – шепнул он.
Замехская заломила руки.
– Ну ты и выбрал! – сказала она. – Правда, поздно, но зато тебе вкусного куска захотелось. На всём дворе прекрасней не найдёшь.
– Верно, – ответил с гордостью Петрек, – потому что у меня есть вкус; но эта красотка бедная, а я, благодарение Богу, узелок себе приготовил.
– И благодаря соли, – шепнула Замехская.
– Соль здоровая, – сказал Дудич, – думаю, что королева, пани моя милостивая, не будет против этого.
– А девушка? – спросила охмистрина.
– Кто её угадает? – начал Дудич. – То смотрит так, будто гневается, иногда, точно милостива.
– Ну… а если влюблена? – прервала Замехская. – Гм?
Дудич покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Но это, может, со временем пришло бы. Я бы её золотом осыпал, я бы… – он не мог докончить, только его руки выразили, что готов был пожертвовать для неё всем.
У старой Замехской иногда были добрые сердечные порывы. Жаль ей сделалось этого смешного, отвратительного человека, который всю жизнь работал на то, чтобы ради одной девушки, смеющейся над ним, глядящей высоко, всё, а может, даже и жизнь в конце потерять. Она приблизилась к сидящему и положила ему на плечо руку, с состраданием поглядывая на него.
– Слушай, Дудич, – сказала она, – у тебя, пожалуй, нет глаз. Живёшь на дворе, а не видишь того, что всем ведомо… Дземму любит молодой король, она сходит с ума по нему… наша пани смотрит на это сквозь пальцы. Где тебе с ним мериться!
Петрек слушал наполовину ошарашенный.
– Всё-таки он на ней не женится! – прибавил он, помолчав.
Охмистрина рассмеялась.
Дудич стоял, опустив глаза.
– Тогда что? Разве люди на вдовах не женяться?
Упорство было непобедимое. Петрек продолжал свою речь:
– Я работал всю жизнь, скопил деньги. Долго ходил в дырявой епанче, а теперь видите как наряжаюсь. Всё-таки на это работал, чтобы иметь всё, как другие. Бархат, цепи, возницы, кареты и жену такую, чтобы мне в ней люди завидовали. Другой не хочу, а ту должен иметь, будь что будет…
И кулаком ударил по колену.
– Что с тобой говорить? – ответила охмистрина. – Я тебе ни чем не помогу, она теперь на тебя смотреть не хочет.
– А потом? – спросил Дудич, поднимая глаза.
Замехская смеялась; глядя на смешно наряженного, некрасивого, несуразного человека, её одновременно охватывали и сострадание, и смех.
– Должна ли я объяснять тебе, – сказала она, – то, чего ты сам должен был догадаться? Она теперь нужна королеве, чтобы короля от той жены, которую для него хотят привезти, оттягивала. Молодой пан и наша старая пани осыпают итальянку подарками, она теперь первый глаз в голове… что ты можешь против них?
Дудич встал с кресла и приблизился почти к уху Замехской.
– Я не так глуп, – ответил он, понизив голос и рукой заслоняя губы. – Королева и молодой пан будут её лелеять, потому что она нужна им, но старый король тоже что-то значит; ксендз Самуэль, гетман, подскарбий также имеют руки… Они, верно, хотят избавиться от итальянки… гм?
– А ты думаешь, что они все, сколько их есть, с нашей старой и молодой итальянками справятся? – спросила охмистрина.
– Молодая королева тоже что-то будет значить, – сказал Дудич.
– Значит, жену хочешь взять упрямо, силой? А что у тебя потом с ней будет? – спросила Замехская. Справишься с ней?
Грубоватое, глуповатое лицо Дудича приняло на мгновение какое-то дикое и дивное выражение, блеснули глаза – и Замехская поняла, что в этом человеке, который метил на придворного, был другой, скрытый, с железной волей и безжалостным упорством.
Петрек молча опустил глаза.
– Это моё дело, – сказал он, – я говорил вам: хочу иметь красивую и видную жену… как получу, так подстрою её под себя.
– Ты ведь легче нашёл бы другую, – промолвила Замехская.
– Если мне эта приглянулась, – сказал Дудич, – я знаю, нелегко её будет уговорить, но я на всё готов… на всё…
Сказав это, из кармана плащика Петрек начал доставать что-то старательно обёрнутое в шёлковый платочек. Охмистрина с любопытством смотрела на эти приготовления.
Медленно, систематично Дудич развернул узелок и достал сначала красивое кольцо с камнем, которое молча сам надел на палец охмистрины. Она не сопротивлялась этому и благодарила его кивком головы и улыбкой. Старуха любила драгоценности, которые в то время, впрочем, носили все, мужчины и женщины, и ценили гораздо больше, чем сегодня.
В платке была ещё одна коробочка, которую Дудич открыл почти с уважением. В нём на атласовом дне лежала запонка, оравленный в золото большой рубин, который сам по себе был ценным, но стоимость камня исчезала при чудесной оправе. В этой работе легко было узнать руку итальянского мастера, который с любовью и энтузиазмом вырезал этот шедевр. Камень обнимали две женские фигуры, которые, казалось, его поднимали. Тела их, лёгкие драпировки, венки из цветов, оплетающие раму вокруг, были из разноцветного золота, серебра и эмали.
Удивлённая Замехская смотрела, а лицо Дудича улыбалось триумфом.
– Вы думаете, – сказал он, – что эту безделушку легко было купить по дешёвки? Хо! Хо! Деревеньку бы, может, получил за то, что она мне стоила! Королева бы не постыдилась её носить.
Сказав это, он медленно закрыл коробочку и вручил её охмистрине.
– Найдите способ отдать это от меня тайно прекрасной Дземме, – сказал он. – Я ничего взамен не прошу, совсем ничего, даже взгляда. Хочу, чтобы приняла и носила.
– А если не примет? – спросила Замехская.
Дудич рассмеялся.
– Она не была бы итальянкой, – сказал он. – Сначала покажите ей, пусть присмотрится, потом…
Дудич показался охмистрине не таким глупым, как раньше.
– Даже от Бога платы не требую, – прибавил он. – Ничего, только чтобы иногда эту игрушу надевала. Есть драгоценности, которые имеют волшебную силу.
Старуха, которая свято верила в чары, коробочку робко поставила на стол. Петрек усмехнулся.
– Буду вам весьма благодарен, когда отдадите это ей и скажете только, что от меня; я есть и буду слугой и рабом.
Охмистрина молчала, уже не было смысла разговаривать с упрямым, который всё предусмотрел, и которого невозможно было ничем отговорить.
Дудич, словно исполнил то, за чем туда вошёл, сразу попрощался с Замехской. Имел уже на уме что-то другое. Открылись у него глаза. Вместо протекции старой королевы ему гораздо нужней была помощь тех людей, которые стояли при старом короле, потому что тем итальянка была помехой.
Дудич имел с некоторыми связи, а особенно с Бонером, который в делах солончаков, как с более опытным, неоднократно советовался. Кроме этого, их связывали другие отношения, раньше хрупкие, но теперь для Петрека набирающие важность.
В молчании, почти незаметно, реформа Лютера распространялась по Польше. В этот период, особенно на отдалённых рубежах, имела она характер совсем отличный от того, какой приняла позже, когда разразилась явно.
В истории новых религиозных идей слишком мало внимания обращают на этот период, который первые симптомы реформатского движения отделяют от решительного разрыва с Римом.
Можно смело сказать, что в начале три четвёрти тех, которые жадно подхватили новые идеи, как их у нас называли, новшества, никогда не допускали, что они могли довести до полного разлада с папством и католицизмом.
Очень много духовных лиц, которых тяготило навязывание предписаний из Рима для бенефиций, руководство за границей, разные злоупотребления, очень многие мечтатели, которым казалось, что религия требует очищения, упрощения, переработки на популярный язык и т. п., очень многие, доведённые гуманизмом до неверия и атеизма, наконец огромное число людей, что, не разбираясь в новшествах, дают себя поймать на их удочку, теснилось к новаторам. Однако же никто, рассуждая о том, давая убежище апостолам реформы, с костёлом не разрывал. Многие хотели ограничиться тем, что называли пурификацией. Они требовали много, но кричащие ограничились бы и меньшими уступками.
Гамрат, который сожжением Мальхеровой и установлением инквизиции встревожил новаторов, на несколько лет удержал явное проявление протестантизма. Потихоньку устраивали заговоры, многие сидели на двух стульчиках; Бонер, Дециуш занимали должности синдиков при католических костёлах, а в своих домах давали приют прибывающим из Германии миссионерам.
Значительная часть младшего духовенства, более живого умом и которой было нечего терять или было немного, бегала слушать реформатский проповедников и живо диспутировала о принципах, ими разглашаемых.
В узких кругах, особенно краковских мещан немецкого происхождения, было модно рассуждать об идолопоклонническом почитании икон, об исповеди, об обрядах, о безбрачии священников и т. п.