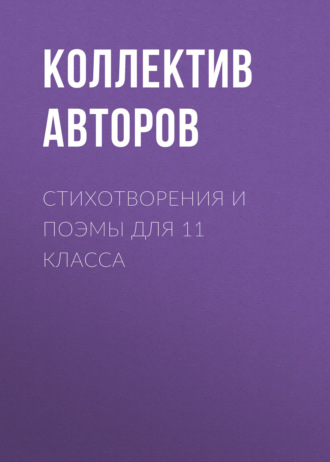
Полная версия
Стихотворения и поэмы для 11 класса
привыкла к монотонности присяжных.
И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а всё же ждет чего-то.
В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстилался,
я узнаю́ твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!
Выходит. Вдруг – мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.
Всё ждет. И ей – то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!
В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
Ей всё нужней, всё тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребёнка.
9Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоем повороте мгновенном
электричеством бьет по локтям
острый угол меж веком и веком.
Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.
О, три слога! Рёв сильных широт
отворенной гортани!
Как в красных
и предельных объемах шаров —
тесно воздуху в трёх этих гласных.
Грянь же, грянь, новорожденный крик
той Свободы! Навеки и разом —
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.
Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, —
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.
Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звёзд ощущает затылком.
Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.
10Ну что ж. Уже всё ближе, всё верней
расчёт, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.
Всё непременным чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолёт,
предслыша небо серебром лопаток.
А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие пространства,
та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворешник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших
ей предстоит удача и печаль.
А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла́ велосипеда.
Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,
где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.
11Я – скоро. Но покуда нет меня.
Я – где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат – и я
с готовностью возникну на пороге.
Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приёмной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом – и предстать в её проёме.
Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я – вот она,
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.
Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.
Сейчас расхохочусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!
Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.
Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волненьем среди тех кулис,
в потёмках, за минуту до дебюта!
Еще не знает речи голос мой,
еще не сбылся в лёгких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галёркой.
(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
О, перейти, превозмогая боль,
от немоты к началу монолога!
Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.
Иль как печник, что, краснотою труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захохотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.
Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.
Своим добром он возместит земле
всех сыновей её, в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребенок.)
Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас – дадут звонок к апрелю.
Реплика доброжелателя:
О нечто, крошка, пустота,
ещё не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!
Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.
Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я – умник, много лет проживший, —
я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься – что же, в том
всё ж есть свое благополучье.
Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утопленью.
Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
все выбиваешь клювом глупым?
Чем плохо там – во тьме пустой,
где нет тебе ни слёз, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.
Примечание автора:
Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой озвучен пульс,
прям позвоночник, как антенна.
Но для чего же мне во вред
ему пройти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?
Мне отведенный кислород,
которого я жду века́ми,
неужто он до дна допьет
один, огромными глотками?
Моих друзей он станет звать
своими? Всё наглей, все дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?
А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?
Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!
И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелою с тонкою спиною.
Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!
Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.
О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!
Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!
– Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь, да будет поздно.
Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.
Как безопасно, как легко,
вне гнева ве́ка или ветра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.
12Каков мерзавец! Но, средь всех затей,
любой наш год – утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одёжек.
И в их великий и всемирный рёв,
захлёбом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым остриём,
вонзился мой, сжегший губы голос!
Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.
Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.
Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом – воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.
13Что еще вам сказать?
Я не знаю,
И не знаю: я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.
Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.
Написала всё это Ахмадулина
Белла Ахатовна.
Год рождения – 1937. Место рождения —
город Москва.
1963Новая тетрадь
Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так стоит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.
Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером её терзать,
марая ради замысла любого.
Чистописанья сладостный урок
недолог. Перевёрнута страница.
Бумаге белой нанесён урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.
Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.
Грузинских женщин имена
Там в море паруса плутали,
и, непричастные жаре,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.
Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.
И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.
Они переходили в лепет,
который к морю выбегал
и выплывал, как чёрный лебедь,
и странно шею выгибал.
Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.
И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли, и мелели,
и загорались невпопад.
И, заглушая олеандры,
собравши всё в одном цветке,
витало имя Ариадны
и растворялось вдалеке.
Едва опершийся на сваи,
там приникал к воде причал.
«Цисана!» – из окошка звали.
«Натэла!» – голос отвечал…
«Не уделяй мне много времени…»
Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.
Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю – снова не получится
из этой встречи ничего.
Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости – из горести
так прямо голову держу.
Снегурочка
Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.
Но голубым своим подолом
вспорхнула – ноженьки видны —
и нет ее. Она подобна
глотку оттаявшей воды.
Как чисто с воздухом смешалась,
и кончилась ее пора.
Играть с огнем – вот наша шалость,
вот наша древняя игра.
Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не дает.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестает.
Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечём его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.
Вот наш удел ещё невидим,
в дыму ещё неразличим.
То ль из него живыми выйдем,
то ль навсегда сольёмся с ним.
«Живут на улице Песчаной…»
Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.
Я о печальной
неведомой собаке их.
Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога —
как их раздумья глубоки.
То добрый пёс. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.
Однажды просто так, без дела
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,
и говорила я с трудом.
Уставив глаз свой самоцветный,
всё различавший в тишине,
пёс умудренный семилетний
сидел и думал обо мне.
И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.
Зовется Тошкой пёс. Ах, Тошка,
ты понимаешь всё. Ответь,
что мне так совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?
Всё тонкий нюх твой различает,
угадывает наперёд.
Скажи мне, что нас разлучает
и все ж расстаться не даёт?
«По улице моей который год…»
По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.
Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.
О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.
Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.
Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.
Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и – мудрая – я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.
И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.
И вот тогда – из слёз, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.
«В тот месяц май, в тот месяц мой…»
В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость,
и, расстилаясь над землёй,
влекла меня погоды лётность.
Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.
Но, слава Богу, стал мой взор
и проницательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлёт
обходится мне всё дороже.
И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.
Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скучно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.
И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегает дитя
и нарушает их порядок.
Нежность
Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.
Старинной вазою зелёной
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивлённый
над чистым омутом стекла.
Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
– Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены. —
И антиквар какую плату
спросил? —
О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.
И слезы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые средь тишины.
За то, что мне тебя не видно,
а видно – так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.
Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: – Мне нет покою!
Откуда облако взялось?
Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, «чур» не говори,
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.
Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.
Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.
Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.
Несмеяна
Так и сижу – царевна Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
– Царевна, отвори нам! Нас немало! —
под окнами прохожие кричат.
Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здороваются, кланяются, имя
«Царевич» говорят наперебой.
Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звеня.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.
Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слыву я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.
Кричат они: – Какой верна присяге,
царевна, ты – в суровости своей? —
Я говорю: – Царевичи, присядьте.
Царевичи, постойте у дверей.
Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе —
смеялась я, как не смеяться вам.
Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси».
– А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне? —
Смеялась я: – Богат он или беден,
румян иль бледен – не припомнить мне.
Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.
Мотороллер
Завиден мне полёт твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слёз,
что льют без повода в начале лета.
И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.
Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зелёных отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.
И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.
Так слабенький твой голосок поёт,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, весёлый твой полёт
недвижностью моей уравновешен.
Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.
Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдалённых.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зелёных.
Так проносись! – покуда я стою.
Так лепечи! – покуда я немею.
Всю лёгкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.
«Влечёт меня старинный слог…»
Влечёт меня старинный слог,
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.
Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспыльчивость и щедрость!
Но снизойдёт и на меня
последнего задора тщетность.
Когда-нибудь очнусь во мгле,
навеки проиграв сраженье,
и вот придёт на память мне
безумца древнего решенье.
О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,
любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю – и табун родимый
нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.
Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.
Светофоры
Геннадию Хазанову
Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.
Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: «Постой, не гони».
Благодарна я им за смещенье
этих двух разноцветных огней,
но во мне происходит смешенье
этих двух разноцветных кровей.
О, извечно гудел и сливался,
о, извечно бесчинствовал спор:
этот добрый рассудок славянский
и косой азиатский напор.
Видно, выход – в движенье, в движенье,
в голове, наклонённой к рулю,
в бесшабашном головокруженье
у обочины на краю.
И, откидываясь на сиденье,
говорю себе: «Погоди».
Отдаю себя на съеденье
этой скорости впереди.
Сны о Грузии
Сны о Грузии – вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенявшая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной суровость,
нежность родины чужой.
Свеча
Геннадию Шпаликову
Всего-то – чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.
И поспешит твоё перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.
Уже ты мыслишь о друзьях
все чаще, способом старинным,
и сталактитом стеаринным
займёшься с нежностью в глазах.
И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.
Магнитофон
В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,
где вкруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный, —
в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищённый мной,
мой голос плачет отвлечённо.
Я знаю – там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.
И гоголевской Катериной
в зелёном облаке окна
танцует голосок старинный
для развлеченья колдуна.
Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.
Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом «эль»,
невнятно склонный к заиканью,
возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.
Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.
И в эту ночь там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.
Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.
Пока я сплю, злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости – и снов моих
нецеломудренны туманы.
Прощание
А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.
Как ты любил? – ты пригубил









