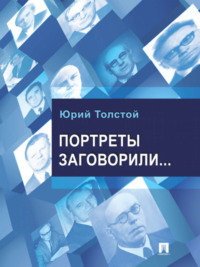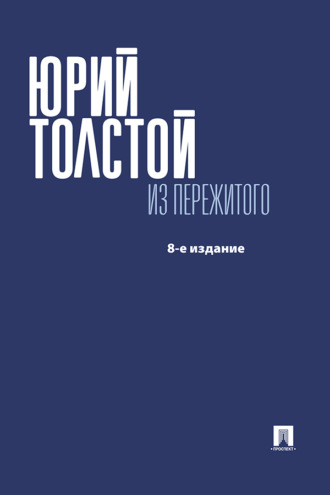
Полная версия
Из пережитого
Следующей заметной вехой в деятельности Собчака в парламенте явилась его полемика с Н. И. Рыжковым по поводу АНТа. К сожалению, в этой полемике Собчаку явно отказало чувство меры, что вызвало справедливую отповедь депутатского корпуса и сказалось на результатах голосования при выборах Председателя Верховного Совета СССР: Собчак не набрал и 3 процентов голосов. Выступавший в прениях маршал Ахромеев с присущей военному человеку четкостью и лаконичностью очень точно подметил некоторые негативные качества, присущие Собчаку: ему ничего не стоит, говорил маршал, унизить человека, он не считается с достоинством работающих с ним людей. Маршал дал эту оценку, не только наблюдая Собчака на заседаниях Съезда и Верховного Совета, но и опираясь на совместную работу с ним в Комиссии по Тбилиси. К сожалению, с этой оценкой приходится согласиться.
Собчак вошел в состав Комитета по законодательству, который первоначально возглавлял С. С. Алексеев, а затем (после утверждения С. С. Алексеева Председателем Комитета конституционного надзора СССР) возглавил Ю. Х. Калмыков, деятельность которого на этом посту заслуживает всяческих похвал. От оценки С. С. Алексеева воздержусь, поскольку работаю сейчас под его началом, и какую бы оценку я ни дал, мои слова могут быть истолкованы превратно. Вообще надо сказать, что такие юристы, как А. И. Лукьянов, В. Н. Кудрявцев и Ю. Х. Калмыков, в составе депутатского корпуса зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Это безотказные труженики. Одна из самых привлекательных их черт состоит в том, что ни один из них не работает на публику, всегда остается самим собой и тянет свой воз, пока хватает сил, а иногда и через силу. Трагизм их положения заключается в том, что, будучи юристами очень высокой квалификации, они нередко вынуждены убеждать далеких от юриспруденции депутатов в таких вещах, которые для профессионалов очевидны. Впрочем, я отвлекся от основного сюжета.
Собчак был избран в Комитете по законодательству председателем подкомитета по экономической реформе. И надо сказать, что когда он принимался за дело, он достигал немалого. Мне, в частности, импонировали его выступления при внесении поправок в Закон о кооперации. Весьма полезный вклад он внес в подготовку проекта Закона о конституционном надзоре. Особенно мне запомнилась его полемика с Ф. М. Бурлацким при принятии Закона о собственности. Здесь я был целиком на стороне Собчака, который в ответ на требования Бурлацкого подробно урегулировать в этом Законе отношения так называемой интеллектуальной собственности метко и образно заметил, что закон должен быть интеллектуально чист. Но, к сожалению, в этом Комитете Собчак далеко не всегда работал достаточно интенсивно. Видимо, слишком много времени отнимают политическая борьба, заграничные турне, а теперь и деятельность на посту Председателя Ленсовета. А жаль! Как говорил учитель Собчака О. С. Иоффе, для юриста не может быть более высокой оценки его труда, нежели воплощение его концептуальных положений в принимаемых законодателем решениях. Думаю, что именно в этой области Анатолий Александрович смог бы принести наибольшую пользу.
Мы подошли к завершающему этапу деятельности Собчака на посту Председателя Ленсовета. Но вначале несколько наблюдений, предшествовавших выдвижению Собчака на этот пост. Когда Собчак согласился баллотироваться в депутаты Ленсовета, стало ясно, что его прочат на пост его Председателя. В этот период у меня произошел любопытный обмен репликами с А. А. Щелкановым в буфете депутатского корпуса гостиницы «Москва». Встретились мы в очереди. После того как я ему представился, Щелканов мне сказал:
– Не понимаю Собчака: как он мог согласиться стать Председателем Ленсовета? Ведь это же безумие! Мне предлагали, но я отказался.
Думаю, что Щелканов здесь явно лукавил. Дело в том, что рейтинг Собчака по опросам общественного мнения был в Ленинграде в несколько раз выше, чем Щелканова (если я не ошибаюсь, чуть ли не в шесть раз). Поэтому конкуренции с Собчаком Щелканов явно не выдержал бы. Каково же было мое удивление, когда спустя некоторое время Щелканов согласился стать Председателем Ленгорисполкома, то есть выполнять при Собчаке роль толстовского холстомера! Думаю, что это еще большее безумие, чем согласие Собчака на пост Председателя. Но, видимо, никому еще не удалось измерить, в какой степени честолюбие движет поступками людей.
Вернемся, однако, к Собчаку. Вскоре после избрания Собчака депутатом Ленсовета, а возможно, и его Председателем (точно не помню), я встретил его в Комитете конституционного надзора, куда он пришел к С. С. Алексееву. Поздравив Собчака, я заметил:
– Теперь ваша основная задача состоит в том, чтобы подобрать себе работоспособную команду, а это при нынешнем составе Ленсовета будет далеко не просто.
У Собчака это вызвало неудовольствие, он сразу скривил физиономию (слишком хорошо за тридцать с лишним лет я его изучил!). Ну что же, без ложной скромности могу сказать, что я в данном случае как в воду глядел.
Собчак с самого начала допустил ошибку, взяв в качестве своего напарника Щелканова. В результате во главе города оказались два необычайно амбициозных, честолюбивых человека, ни один из которых не имеет необходимого опыта организаторской работы, не знает болевых точек города и чурается черновой работы. О Собчаке я могу сказать это с полной уверенностью. Впрочем, не исключаю, что в данном случае Собчак оказался заложником той части депутатского корпуса, которая условием избрания Собчака поставила его согласие на то, чтобы пост Председателя исполкома занял Щелканов. Не знаю! Любопытно, что уже после того, как эти заметки были написаны, я прочел в «Ленинградском рабочем» интервью с депутатом Е. Красницким, который по поводу взаимоотношений Собчака с частью депутатов Ленсовета высказал то же самое предположение.
Во всяком случае, хотя Собчак и представил Щелканова как своего единомышленника, никакого единомыслия не получилось. Одно дело – играть в политические игры, рвать чью-то шкуру (будь то Н. И. Рыжков или Е. К. Лигачев), будучи уверенным в своей безнаказанности, и совсем другое дело – делить реальную власть и к тому же отвечать за жизнеобеспечение города с пяти с половиной миллионным населением. Я уже не говорю о том, что сама идея разделения постов Председателя Ленсовета и Председателя Исполкома Ленсовета мертворожденна, приводит к путанице, бесконечным спорам о разграничении полномочий, к безответственности, а в конечном счете – к параличу власти. Но при существующем разграничении постов ясно, что на посту Председателя Исполкома Ленсовета должен быть крупный организатор и хозяйственник, попросту говоря, русский мужик, который не умеет очаровывать своими интервью экзальтированных дам, но тянет свой воз, думает, как накормить и обогреть город, обеспечить людей жильем, медикаментами, строить больницы. Кто это должен быть – Большаков, Хижа, Севенард, Ходырев или кто-то другой – судить не берусь, но во всяком случае это не должен быть ни Собчак, ни Щелканов, ни рафинированный вузовский политэконом Чубайс (кстати, как мне тогда казалось, симпатичный молодой человек).
Другая, пожалуй, еще более существенная ошибка Собчака на посту Председателя Ленсовета состоит в том, что он ухитрился восстановить против себя значительную часть депутатского корпуса. Конечно, не Собчак выбирал депутатов. Их избирали во многом обманутые избиратели. Качественный состав так называемого демократического Ленсовета оставляет желать много лучшего. Кстати сказать, у ряда из них, если судить по их поведению, по тем льготам и благам, которые они выбивают для себя и своих ближних, нет никаких оснований называть себя демократами. Достаточно сказать, что теперь и в Ленсовет нельзя пройти по паспорту, нужно, чтобы сверху «спустили» пропуск. Так что Собчак получил в составе депутатов далеко не лучший человеческий материал. В этих условиях его задача как руководителя состояла в том, чтобы пробудить в каждом депутате, будь то вчерашний бомж, аппаратчик или «демократ», его лучшие качества и поставить их на службу делу. К сожалению, он с этой задачей явно не справился. И здесь он пошел по пути выпячивания недостатков отдельных депутатов, их высмеивания, чем восстановил их против себя, а иных заставил и люто его ненавидеть. Эти его качества отмечали и его соратники по руководству Ленсоветом, в том числе и первый его заместитель Щербаков, который в одном из своих интервью, кажется «Рабочей трибуне», заметил, что Собчак обращается с депутатами, как со своими студентами. Должен, однако, сказать, что я не слышал, чтобы Собчак в бытность его преподавателем университета бестактно обходился со студентами.
Слабость Собчака как руководителя сказалась и в расстановке депутатов на ключевые посты в Ленсовете. Ну, разве можно было доверять пост Председателя Комиссии по продовольствию Марине Салье, которая в период, когда город должен был закладывать овощи на зиму, укатила в Соединенные Штаты?
Складывается впечатление, что то ли Собчак оказался заложником Ленсовета, то ли он настолько поглощен выполнением представительских функций, загранкомандировками, получением почетных дипломов, раздачей интервью и надиктовыванием страниц собственной жизни, что до такой «мелочи», как жизнеобеспечение ленинградцев, у него руки не доходят. По-видимому, он разделяет широко распространенное заблуждение, что рыночные рычаги, стоит их запустить, заработают автоматически и сами по себе выведут город и страну из того критического состояния, в котором они находятся. К сожалению, так не бывает. Пока рыночные рычаги привели к дальнейшему обнищанию граждан, безудержному росту инфляции, к тому, что с полок магазинов исчезли даже те товары, которые вчера были в избытке (например, соль). Разумеется, нельзя винить в этом одного Собчака, но то, что он внес свой «вклад» в разрушение старых структур без создания жизнеспособных ростков новых, несомненно.
Не принесла пока ощутимых плодов и идея создания в Ленинграде области свободной экономической зоны. Вообще, как мне кажется, эта идея находится в противоречии с поддержанием нормальных хозяйственных связей в масштабе всей страны, с тем, что ведущей тенденцией развития мирового хозяйства является интеграция, а не стремление к автаркии, то есть замкнутому хозяйству. К сожалению, многие, в том числе и Собчак, не понимают, что борьба с привилегиями – это всего-навсего ловля блох и что без оздоровления отношений в сфере производства совершенствование кредитно-финансового механизма (само по себе довольно сомнительное) ровным счетом ничего не даст. Элита должна быть во всяком обществе, без нее общество хиреет и гибнет, но только формироваться эта элита должна путем естественного отбора, а не в процессе митинговой демократии.
Собчак и другие деятели того же типа были вынесены на гребень волны популизмом, который, как я уже отмечал, сродни необольшевизму. Боюсь, что эти деятели не против того, чтобы под флагом борьбы с партократией мы вновь прошли тот путь, который был уготован нам с 1917 года.
Отсюда – расшатывание институтов союзной власти, подыгрывание сепаратистским тенденциям в республиках, мышиная возня вокруг заключения Союзного договора. К сожалению, эти деятели, возможно, и преисполненные самых добрых намерений, не понимают, что мы обречены на медленную мучительную эволюцию, альтернативы которой нет. Этим, помимо всего прочего, можно объяснить выход Собчака, Попова и других деятелей того же типа из партии, хотя не исключено, что решающими являются здесь чисто карьеристские мотивы.
Какие же наиболее характерные черты Собчака как человека и политического деятеля хотелось бы отметить?
Несомненно, что это даровитый человек, обладающий острым умом, способный улавливать настроения массы и играть на них. Это блестящий полемист, который может безапелляционно судить о сюжетах, о которых имеет довольно смутное представление. Это человек необычайно самолюбивый и честолюбивый, никогда не признающий своих ошибок. В известном смысле это политический наркоман, который превыше всего ставит упоение властью. В то же время это человек, не имеющий четкой долгосрочной программы, дилетант в политике, плохо разбирающийся в людях, падкий на лесть и угодничество, не умеющий и не желающий прислушиваться к чужому мнению и извлекать из него пользу в интересах дела.
Собчака можно сравнить с бенгальским огнем, который способен давать яркие вспышки. Но, к сожалению, у этого огня нельзя обогреться, да и пищу на нем приготовить нельзя.
Было бы любопытно сопоставить характеристику, которую один из лидеров кадетской партии, В. Д. Набоков, давал А. Ф. Керенскому, с качествами деятелей, вынесенных на гребень волны в период избирательной кампании 1988–1989 гг. и последующие годы. При этом я далек от мысли привязывать эту характеристику лишь к кому-то одному из них – по-видимому, она может быть отнесена ко многим. Любопытна и характеристика той социальной среды, которая взлелеяла Керенского и ему подобных (часто неожиданно для них самих). И здесь прослеживается много общего с днями нынешними. Вот выдержки из воспоминаний В. Д. Набокова, иногда даваемые в вольном пересказе, но точно передающие смысл соответствующих высказываний:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См.: Жданов Ю. А. Взгляд в прошлое. Ростов н/Д, 2004. С. 195.
2
См.: Твардовский А. Стихотворения и поэмы. 1954. С. 589.
3
Твардовский А. За далью – даль. Из лирики этих лет. М., 1970. С. 133.
4
Твардовский А. За далью – даль. С. 136.
5
К сожалению, опасения на сей счет оправдались. В июле 2016 г. Президент РФ вынужден был отрешить Никиту Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.
6
В доктрине иногда встречаются попытки подвести под сложившееся положение теоретическую базу. Вот одна из них: «Частное право само по себе не создает условий для реализации правомочий публичного собственника в целях имущественного обеспечения государственных и муниципальных функций, где неуместны диспозитивность и широкая дискреция. Более того, публичный собственник выступает как имущественно-обособленный субъект… непроницаемый для гражданского законодательства, которое не в силах урегулировать протекающие внутри государства и муниципального образования процессы формирования волеизъявления, направленного на осуществление права собственности тем или иным образом» (Винницкий А. В. Публичная собственность: проблемы формирования административно-правовой доктрины: автореф. дис… д-ра юрид. наук. Екатеринбург. 2013. С. 34). Этот тезис, хотел того автор или нет, нельзя воспринимать иначе как призыв все отдать на откуп чиновничеству. Гражданское законодательство, как полагает А. В. Винницкий, по самой своей природе не создает условий для реализации правомочий публичного собственника и не способно участвовать в их осуществлении. Возможно, что и сам автор не осознает, насколько перикулезен ход его рассуждений.
7
См.: Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 20 марта.
8
См.: Гринберг Р. Россия опять в поисках «верного» пути; Богомолов О. Мир в процессе радикальных перемен: новые модели жизнеустройства // Мир перемен. 2015. № 1. С. 7, 37.
9
Гринберг Р. Указ. соч. С. 7, 43. Это предостережение вполне уместно. Напомним, как происходило вхождение Ельцина во власть, когда его популярность зашкаливала, и чем его пребывание во власти завершилось.
10
В связи с вхождением в состав Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города Севастополь и вердиктом, вынесенным по этому вопросу Конституционным Судом РФ, возникла острая полемика между отечественными государствоведами В. Д. Зорькиным и Е. А. Лукьяновой. Подробный разбор всех аргументов спорящих сторон и их оценка в мою задачу не входят. Ограничусь лишь кратким резюме.
Нельзя сбрасывать со счетов, что трагические события в братской Украине инициированы отнюдь не Российской Федерацией (у нас своих проблем хватает!), а теми слоями украинского общества, довольно разношерстными – от олигархов до люмпенов, которые, будучи недовольны сложившимся положением дел, с самого начала поставили своей целью свержение легитимной власти и водружение с грубейшими нарушениями Конституции Украины, которую de jure никто тогда не отменял, новой власти, представителей которой выкликали на майдане по заранее заготовленным спискам. Все эти антиконституционные акции всячески поощрялись, а то и диктовались уполномоченными стран Запада (в первую очередь США), которые в политическом истеблишменте своих стран занимают далеко не последнее место, подпитывались самой разносторонней поддержкой (финансовой, экономической, психологической и не в последнюю очередь военной). Можно констатировать, что нынешняя власть воцарилась на Украине, растоптав Конституцию. Есть веские основания полагать, что если бы энергичные меры по воссоединению Крыма и Севастополя с Россией не были безотлагательно приняты, то этот регион ожидал бы куда более страшный и кровавый майдан по сравнению с тем, который правил бал в Киеве и до сих пор дает о себе знать. Промедление в политике может быть смерти подобно. Оценивая меры по воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, во всяком случае, не следует придерживаться двойных стандартов – в своем глазу выискивать соринки, а в чужом не замечать бревна.
Полемика между В. Д. Зорькиным и Е. А. Лукьяновой приобретает особое значение в связи с возникшим спором о том, чему придавать приоритетное значение: нормам международного договора или нормам отечественного законодательства, если между ними возникает коллизия. Правильный подход к решению этого вопроса продемонстрирован в постановлении Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П. Он сводится к тому, что Россия не вправе заключать международные договоры, не соответствующие Конституции РФ. Правила международного договора, если они нарушают конституционные положения, несомненно, имеющие для России особо важное значение, не могут и не должны применяться в ее правовой системе, основанной на верховенстве Конституции РФ. То же относится и к постановлениям Европейского суда по правам человека, если в них правила международного договора получили произвольное истолкование, искажающее их суть. Эти постановления не должны применяться уже потому, что сами они противоречат нормам международного права. Ту же по существу позицию за три с лишним месяца до принятия Конституционным Судом постановления от 14 июля 2015 г. четко изложил член-корр. РАН В. А. Мусин: «Никакие нормы международного права не заставят нас действовать вопреки нашему публичному порядку» (Мусин В. А. Право под гнетом политики. Санкт-Петербургские Ведомости. 2015. 24 марта. С. 1, 5). Вместе с тем следует согласиться и с академиком С. Ю. Глазьевым в том, что самостоятельный внешнеполитический курс руководства России должен быть подкреплен восстановлением национального суверенитета и контроля над воспроизводством и развитием собственной экономики. А здесь положение дел оставляет желать много лучшего.
11
Фактурой для суждений, относящихся к замене министра образования и науки, послужила опубликованная в «Санкт-Петербургских ведомостях» (2016. 26 августа. С. 4) статья А. Борисова «Технолога сменил Идеолог».
12
Согласимся с тем, что без экономической свободы не может быть и других свобод (политических свобод, свободы вероисповедания, свободы выбора места жительства, профессии и рода занятий, свободы творчества и т. д.). Свободы, однако, не могут быть безграничны. Если свободы не имеют разумных границ и отсутствуют условия для реализации свобод, то они превращаются в свою противоположность, т. е. произвол.
13
Признателен Роману Туманову, автору заметки «Беспартийный цивилист», опубликованной 26 сентября 2017 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях». Автор четко изложил мою позицию в девяностые годы прошлого века: «Осудил и путч, но еще больше – действия команды Ельцина, ведшие страну к катастрофе, призывал к диктатуре права, критиковал предстоящие экономические реформы, которые явно давали дорогу криминалу». Этой позиции придерживаюсь и сейчас.
14
Испытал удовлетворение от того, с каким достоинством Путин вел в Хельсинки переговоры с Президентом США Трампом. Путин камня на камне не оставил от наветов зарубежных средств массовой информации, которые продолжают обвинять нашу страну во вмешательстве в президентские выборы в США. Путин квалифицировал эти измышления как средство во внутриполитической борьбе, которая продолжается в США и после выборов. Он обратил внимание на то, что симпатии, которые российские граждане, причем далеко не все, испытывали к Трампу, понятны, поскольку в ходе избирательной кампании Трамп говорил о нашей стане доброжелательно и призывал к улучшению отношений между США и Россией. Понятно, что это вызывало у российских граждан сочувственный отклик. И уж совсем смехотворны обвинения в том, будто Трамп – агент Кремля. В оценке этих инсинуаций позиции Путина и Трампа, если оставаться в формате переговоров в Хельсинки, по существу совпали. Путин отметил, что даже если исходить из ложного предположения о том, что вмешательство государственных органов Российской Федерации имело место (а его нужно отличать от позиции отдельных лиц и частных организаций), то, по признанию самих же средств массовой информации, которые ведут против Трампа оголтелую кампанию, оно было несущественным и никак не повлияло на результаты выборов. В дополнение добавлю, что многие российские граждане, в их числе и я, были и остаются куда более высокого мнения о политической зрелости американского электората, нежели журналисты, которые, явно выполняя социальный заказ, развернули крестовый поход против законно избранного президента США. Тем самым они выказали полное неуважение к воле американских избирателей, о которой на словах так пекутся. Что же касается Трампа, то я бы сравнил его с медведем, берлогу которого обложили охотники. Он попал в ситуацию, в которой короля играет свита.
15
До написания в 1991 г. настоящего очерка.
16
О людях, с которыми общаемся, мы судим обычно по тому, какой стороной они к нам оборачиваются: светлой или теневой. А такие стороны есть едва ли не у каждого. К В. В. Путину и Д. А. Медведеву, которые моложе А. А. Собчака, первый на пятнадцать, а второй – на двадцать пять лет, Собчак оборачивался светлой стороной. К тому же при значительной разнице в возрасте Собчаку, как человеку умному, но не всегда устойчивому в убеждениях (достаточно вспомнить вступление Собчака в КПСС и поспешный выход из нее) не составляло большого труда привить тогда еще молодым людям благоприятное о себе мнение, которое иногда остается на всю жизнь. Этим во многом объясняется бережное отношение Путина и Медведева к Собчаку при его жизни и к памяти о нем. В известной мере распространяется оно и на семью Собчака. Мои же отношения с Собчаком складывались иначе. Собчак далеко не всегда оборачивался ко мне светлой своей стороной. То же можно сказать и обо мне. К тому же ощутимая разница в возрасте была обратной: я старше Собчака на десять лет. Этим, но, конечно, не только этим объясняется то, что моя оценка личностных качеств Собчака и его деятельности неоднозначна. Негативно оценивает А. Собчака социолог Ж. Т. Тощенко. В предложенной ученым классификации фантомов российского общества он относит Собчака к нарциссам (наряду с Бурбулисом, Немцовым и рядом других). См.: Тощенко Ж. Т. Фантомы российского общества. М., 2015. С. 182–228. Данные Ж. Т. Тощенко и мною (начиная с брошюр «Страницы жизни». СПб., 1992; «Исповедь на незаданную тему». СПб., 1993; книг «Из пережитого» (начиная с первого изд. СПб., 1999 и всех последующих в изд. «Проспект». М., в том числе и нынешнюю)) характеристики личностных качеств А. А. Собчака во многом совпадают. В то же время я не склонен оценивать Собчака однозначно. Возможно, это объясняется тем, что знал Собчака в лучшую пору его жизни – годы юности. Именно поэтому я и оценивал Собчака, не впадая в крайности.
17
Теперь можно назвать ее имя – Таня (Татьяна Ильинична Абрамович, мне известна только ее девичья фамилия). С тех пор прошло свыше шестидесяти лет. Люблю свою жену, которая родила нам сына, но и Таню забыть не могу, хотя между нами ничего не было. Не знаю, как сложилась ее судьба. Дай Бог, чтобы она была жива и жизнь ей удалась. Почему пути наши разминулись? Теперь, когда моя финишная ленточка близка, скажу об этом открыто. Из-за гибели отца (а он погиб, когда мне не было и шести лет) я не получил мужского воспитания и никак не решался преодолеть Рубикон в отношениях с женщинами, которые мне нравились. Когда познакомился с Таней, этот комплекс неполноценности был развит у меня довольно сильно, хотя оснований для этого не было. А тут еще дало о себе знать обострение туберкулеза, которым я заразился от матери. Врачи поставили диагноз: инфильтрат в стадии распада. По совокупности обстоятельств я и решил, что не вправе калечить жизнь девушке, которую любил. Но и сейчас неотступно вижу ее во сне и чувствую свою вину перед ней. До сих пор вспоминаю, как неумело шнуровал ее лыжные ботинки. Да святится имя твое. Прости меня…