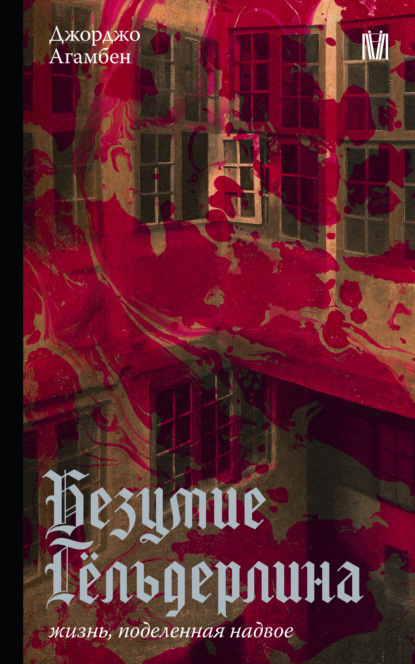Всё переплетено. Как искусство и философия делают нас такими, какие мы есть
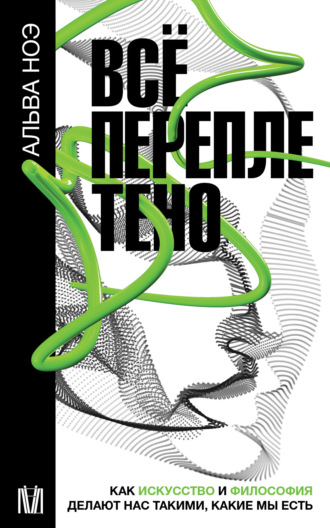
Полная версия
Всё переплетено. Как искусство и философия делают нас такими, какие мы есть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу