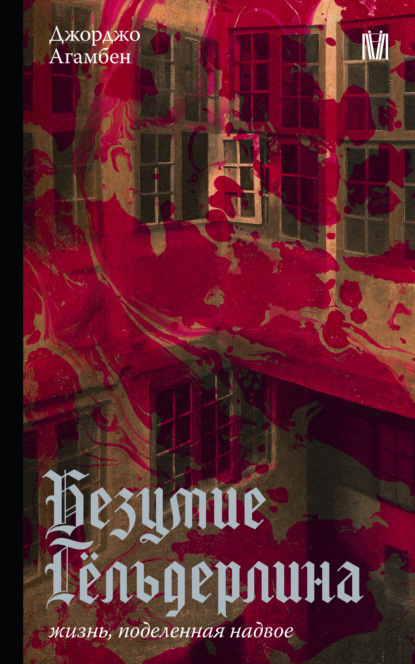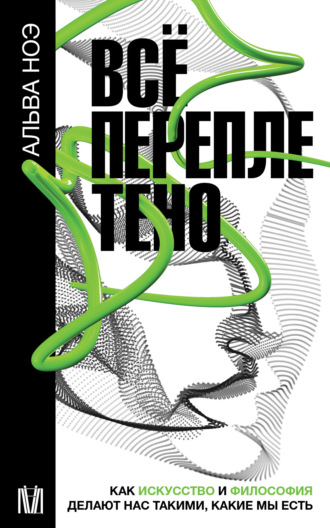
Полная версия
Всё переплетено. Как искусство и философия делают нас такими, какие мы есть

Альва Ноэ
Всё переплетено. Как искусство и философия делают нас такими, какие мы есть
Alva Noë
The Entanglement
How Art and Philosophy Make Us What We Are
© 2023 by Princeton University Press
© В. В. Федюшин, перевод, 2023
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2023
Предисловие
Жизнь и искусство переплетены. Цель настоящей книги – понять это простое утверждение и исследовать его удивительные и далекоидущие последствия[1].
Сказать, что жизнь и искусство переплетены, – значит предположить, что не только мы создаем искусство из жизни – жизнь, так сказать, поставляет ему сырье, – но и искусство перерабатывает и изменяет этот материал. Искусство обновляет жизнь. В мире искусства мы некоторым образом меняемся. И, что очень важно, наш мир всегда был миром искусства.
Вывод один: искусство очень важно. Мы не поймем искусство и его место в нашей жизни, равно как не поймем и самих себя, пока не воздадим должное его генеративной, преобразующей и воистину освободительной силе.
Еще один вывод: поскольку человеческая природа является предметом искусства, говорить о ней как о природе в корне неверно. Мы вопросы, а не ответы, и в этом похожи на произведения искусства. Мы феномены эстетики. Чтобы понять и познать себя, мы должны эстетически исследовать ту незавершенную работу, которой являемся.
В мои цели не входит сказать «нет» науке или даже науке о человеке. Моя цель, скорее, сказать «да» искусству и важности эстетической позиции, которую оно поддерживает.
В этой книге я выступаю против наблюдаемой у мыслителей различных течений и в нашей популярной культуре тенденции к недооценке стиля и эстетики, ошибочной ассоциации их, с одной стороны, с модой, а с другой – с чем-то вроде естественного удовольствия (если таковое существует) или простого предпочтения. Если мы не найдем лучшего, более богатого, более правдоподобного понимания эстетического, то не сможем надеяться на развитие адекватного понимания человеческого бытия.
Как в большом, так и в малом людей организуют привычки, обычаи, технологии и биология. Эта организация – то, что позволяет нам иметь какой-то мир и справляться с ним. Без нее человеческой жизни нет; возможно, нет жизни вообще.
Но она и ограничивает нас, держит в плену, определяет наше мировоззрение и задает рамки интуиции. Не существует способа раз и навсегда освободиться от несвободы, которая делает нас теми, кто мы есть. Даже наше тело, если рассматривать его как набор химических и нервных процессов, организовано для того, чтобы регулироваться и самоподдерживаться.
Может показаться странным и романтичным, ненаучным и даже нелепым утверждение, что искусство и философия способны нас освободить – не от реальности организации вообще, а от конкретных привычных способов существования, которые делают нас такими, каковы мы сейчас. Но именно это я и утверждаю: искусство и философия – это способы, которыми мы себя реорганизуем.
Искусство и философия нацелены на экстаз, полное освобождение от сковывающих нас состояний. Да, цель философии – понимание, а цель искусства – эстетическое наслаждение. Хорошо. Но это поверхностные атрибуты. Искусство и философия требуют от нас, чтобы мы работали над собой и производили себя заново на индивидуальном и коллективном уровне.
Вскоре после того, как я начал работу над книгой об искусстве и человеческой природе, которой предстояло получить название «Странные инструменты» и выйти в конце 2015 года, один друг спросил меня, не отказываюсь ли я от философии сознания. Этот вопрос поразил. Мне казалось очевидным, что проблема искусства – что это такое, как оно работает, почему оно важно, а особенно вопрос, что представляет собой эстетический опыт, – является центральной проблемой теории сознания. В настоящей книге я пытаюсь объяснить, почему это так.
A. Н.БерклиАвгуст 2022 годаI
1. Искусство в сознании
В самом начале истории мы находим невероятные памятники палеолитического искусства – неразрешенную проблему всех теорий развития человечества и средство тонкой проверки их истинности.
Р. Дж. КоллингвудЖизнь в переплетении
Коллингвуд написал это утверждение почти сто лет назад[2]. Его вызов ясен. Если мы занимаемся искусством с самого начала нашей истории, то оно не продукт этой истории, а одно из ее условий.
В этой книге я пытаюсь отнестись к этому вызову всерьез. Искусство не могло появиться первым. Как бы это случилось? Но оно появляется в самом начале, и никакого начала без него быть не может. Искусство – это не надстройка, не культурное дополнение, а основная и центральная часть того, что делает культуру возможной. «Искусство, – писал Коллингвуд, – это основная и фундаментальная деятельность сознания»[3]. Это утверждение касается одновременно и искусства, и сознания: искусство не позднее дополнение к репертуару человеческой деятельности; произведение искусства, его создание и использование соответствуют основам природы человеческих существ.
Можно подумать, что «примитивное» сознание наиболее естественным образом находит свое выражение в песнях и танцах. Но на самом деле это не так. Не то чтобы мы не пели и не танцевали с самого начала нашей жизни. Но искусство – нечто гораздо большее, чем песни и танцы. Искусство в собственном смысле слова – это размышление и сопротивление. Искусство – это ирония. Искусство, при всей его телесности и интересе к материальным предметам, его связи с созиданием, строительством, деланием, а также пением и танцами, больше похоже на философию, чем на игру; ему присущи строгость и требовательность. Искусство нацелено на экстаз и трансформацию. Искусство сотрясает наши миры.
Коллингвуд считал, что история занимает центральное место в философии. В этой книге я не занимаюсь историческими исследованиями, но в ее основе лежит квазиисторическая загадка. Мы сталкиваемся с поразительной загадкой происхождения.
Задумайтесь: мы считаем естественным записывать свои слова и умеем это делать. Но как мы сделали это в первый раз? Как нам вообще пришла в голову мысль, что речь – физическая, изменчивая, связанная с дыханием и социальными отношениями, – обладает артикулированностью и структурой, которые позволят еезаписать? Проблема заключается в следующем: думать о речи как о чем-то, что обладает артикулированностью, уже значит думать о ней как о чем-то, что состоит из комбинируемых и рекомбинируемых частей; другими словами, как о чем-то, что поддается записи. Поэтому кажется, что идея возможности записи языка должна была предшествовать изобретению письменности. Еще до того, как появилось письмо, существовала писательская позиция (этому вопросу посвящена глава 5).
Аналогичная проблема возникает, когда мы обращаемся к изображениям (что я делаю в главе 4). Как напоминает нам Коллингвуд, мы создаем и изучаем изображения не менее сорока-пятидесяти тысяч лет, то есть столько, сколько у нас вообще есть основания предполагать, что мы – подобные нам животные, привыкшие познавать мир и воспринимать его так же, как мы, – существуем на этой планете. Но как мы научились это делать? Как мы пришли к способности созерцать свое положение с отрешенностью, необходимой, чтобы увидеть его как сцену или картину, которую можно запечатлеть на бумаге – изобразить? Нас уже не удивляет эта способность к отстраненному созерцанию, ведь мы живем и всегда жили с изображениями. Мы знаем, как пользоваться ими и мыслить мир как явленный в них, зафиксированный ими, запечатленный, пусть даже производить такие изображения могут лишь очень немногие из нас. Но тенденция смотреть на мир так, словно он представлен в живописи, была бы невозможна или, скорее, даже совсем не понятна, если бы не тот факт, что изобразительная позиция в некотором смысле предшествовала изобретению рисунка и живописи, если бы не предварительное понимание изображения.
Мы сталкиваемся с этой загадкой происхождения, даже когда обращаемся к тем областям нашей жизни, которые (во всяком случае, на первый взгляд) совершенно не затронуты графическими технологиями вроде письма и рисования – или, раз уж на то пошло, любой другой технологией. В конце концов, люди занимаются сексом. Можно подумать, что здесь, в самом сексе, мы достигаем своего рода естественной основы. Можно предположить, что сексу присущи свойства, прямо и непосредственно вытекающие из тела. Признаки возбуждения, такие как приток крови, выделение жидкостей, набухание тканей, само качество оргазма кажутся биологически неизменными константами, всегда и везде одинаковыми для людей. Возможно, так оно и есть. Но и здесь следует проявлять осторожность. Тело само по себе является носителем стиля и смысла, и даже наш телесный опыт пронизан тем, что можно назвать Я-концепцией. В той мере, в какой секс является чем-то, чем мы занимаемся с другим человеком, мы всегда занимаемся им в рамках некоторой Я-концепции, описывающей то, кто мы есть и что делаем с другим или по отношению к нему. Социальную и Я-концептуальную нагрузку из сексуальной жизни человека исключать нельзя в неменьшей степени, чем из его жизни в языке. Каково было бы быть говорящим человеком, агентом говорения, не участвуя и не понимая смысла своего участия в языковых обменах с другим? Похоже, с тех самых пор, как появились человеческие тела, они являются носителями субъективного и интерсубъективного значения, которое проявляется в том, что мы называем стилем, и не находит отражения в простой физиологии. Даже секс, таким образом, является чем-то, что мы инициируем или чем занимаемся как потребители и участники более широкой культуры идей и образов. Что может заставить нас думать иначе? (Тело и стиль – темы глав 7 и 8 соответственно.)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Тема этой книги – не то, что Эйнштейн называл «пугающим действием на расстоянии», характерным для поведения квантовых частиц. Также я не применяю термин entanglement, как его используют ученые-информатики («запутанность»), чтобы отразить, что современные технологии по своей сложности превосходят то, что может постичь человек. Эта концепция запутанности, созданная Дэнни Хиллисом, обсуждается в Arbesman 2016. Ближе по духу к тому, что меня здесь интересует, теория материальной вовлеченности Малафуриса (Malafouris 2014) и теория переплетения Ходдера (Hodder 2012), которые исследуют, как вещи, инструменты, технологии и материальная культура связаны с познанием, социальной организацией и, более того, эволюционным происхождением человека. Я восхищаюсь их трудами, которые можно рассматривать как развитие мысли на тему «расширенного разума» (Clark and Chalmers 1998; Clark 2008, а также Noë 2009 и Noë 2015b), но, как станет ясно ниже, смотрю на проблему под другим углом (хотя и дополняющим их).
2
Collingwood 1924, 52. Спасибо Нэнси С. Стрювер (Nancy S. Struever, 2020) за то, что обратила мое внимание на значение работ Коллингвуда для этого проекта.
3
Collingwood 1925, 14.