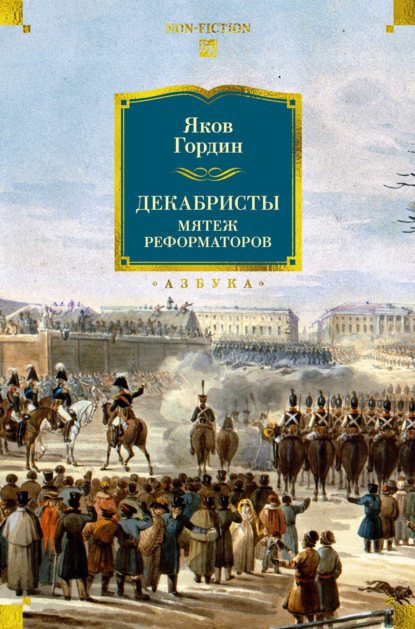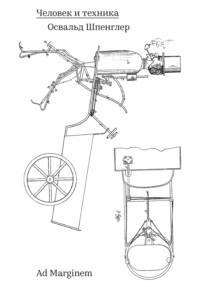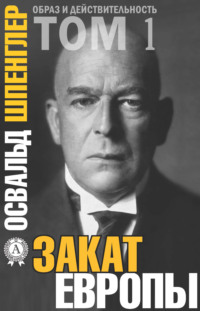Полная версия
Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории
Если вернуться к более узким задачам, то в первую очередь следует определить в морфологическом смысле положение Западной Европы и Америки в период с 1800 по 2000 г. Требуется установить «когда» этой эпохи среди всей западной культуры как целого, понять ее смысл как биографического отрезка, который в том или ином виде с необходимостью встречается во всякой культуре, органическое и символическое значение языка ее политических, художественных, духовных, социальных форм.
Сравнительное рассмотрение указывает на «одновременность» данной эпохи с эллинизмом, причем, в частности, нынешняя высшая ее точка (обозначенная мировой войной) совпадает с переходом от эллинизма к римской эпохе. Римский дух, с его строжайшим чутьем на факты, лишенный блеска, варварский, дисциплинированный, практичный, протестантский, прусский, всегда останется для нас, вынужденных обходиться лишь сравнениями, ключом к пониманию собственного будущего. Греки и римляне – в этом судьбоносный водораздел также и между тем, что с нами уже произошло, и тем, что нам еще предстоит. Ибо еще давно можно было и следовало отыскать в «Древнем мире» события, которые являются совершенной парой к нашим, западноевропейским. Будучи во всем от них отличными на поверхности, они тем не менее оказываются во всем равными им по внутренней динамике, влекущей великий организм к завершению развития. Начиная с «Троянской войны» и Крестовых походов, Гомера и Песни о Нибелунгах, через дорический и готический стиль, дионисийское движение и Возрождение, Поликлета и Себастьяна Баха, Афины и Париж, Аристотеля и Канта, Александра Великого и Наполеона – и вплоть до стадии мировых столиц и империализма той и другой культуры мы отыскиваем в них черту за чертой неизменное alter ego собственной действительности.
Однако интерпретация античной картины истории, которая была при этом предварительным условием, как же односторонне к ней всегда подходили! как поверхностно! как предвзято! как приземленно! Ощущая себя состоящими с «древними» в слишком уж тесном родстве, мы слишком упрощали себе задачу. В плоском «сходстве» заложена опасность, жертвой которой стало все антиковедение, стоило ему перейти от доведенного до шедевра упорядочивания и определения находок – к душевным истолкованиям. Вот добросовестное заблуждение, которое мы должны наконец преодолеть, а именно что античность близка нам внутренне, потому что мы якобы ее ученики и потомки, между тем как на деле мы – ее обожатели. Вся грандиозная религиозно-философская, историко-художественная, социально-критическая работа XIX столетия понадобилась не для того, чтобы научить нас понимать драмы Эсхила, учение Платона, объяснить Аполлона и Диониса, афинское государство и цезаризм (от этого мы очень далеки), но чтобы дать нам наконец почувствовать, как неизмеримо нам это все внутренне чуждо и далеко, – возможно, более чуждо, чем мексиканские боги и индийская архитектура.
Наши представления относительно греческо-римской культуры неизменно переходили от одной крайности к другой, причем перспектива всех точек зрения уже заранее предопределялась схемой «Древний мир – Средневековье – Новое время». Одни, и прежде всего сюда можно отнести людей, живущих общественными интересами, – политэкономов, политиков, юристов – считают, что «современное человечество» далеко продвинулось по пути прогресса, ставят его очень высоко и измеряют все бывшее прежде в сравнении с ним. Нет ни одной современной партии, исходя из принципов которой уже не была бы дана оценка Клеону, Марию, Фемистоклу, Катилине и Гракхам. Другие же – художники, писатели, филологи и философы – чувствуют себя неуютно в этой современности и потому избирают в качестве столь же абсолютной точки отсчета какую-либо эпоху в прошлом и столь же догматически, отталкиваясь от нее, судят день нынешний. Одни усматривают в греческом духе «еще не», другие видят «уже не» в современности, и всегда это происходит под воздействием картины истории, которая прямой линией соединяет эпохи между собой.
В этой противоположности нашли воплощение две души Фауста. Одним угрожает опасность рассудочной поверхностности. В конечном итоге от всего того, что было античной культурой, отблеском античной души, в их руках осталась лишь пригоршня социальных, экономических, политических и физиологических фактов. Все прочее имеет характер «вторичных следствий», «рефлексов», «сопутствующих явлений». В их книгах не ощутишь и следа мифической мощи эсхиловского хора, колоссальной земной силы древнейшей скульптуры, дорической колонны, жара аполлонических культов, даже глубины римского императорского культа. Другие, в первую очередь запоздалые романтики, как еще недавно три базельских профессора – Бахофен, Буркхардт и Ницше, стали жертвой опасности, угрожающей всякой идеологии. Они затерялись в заоблачных высях той древности, которая является исключительно зеркальным отражением их получившей настрой от филологии восприимчивости. Они полагаются на остатки древней литературы, единственное свидетельство, представляющееся им достаточно благородным, однако нет ни одной другой культуры, которая была бы отображена своими великими писателями столь несовершенным образом[21]. Первые же полагаются преимущественно на сухой материал источников по праву, надписей и монет (чем в особенности, к ущербу для себя, пренебрегали Буркхардт и Ницше), и подчиняют ему сохранившуюся литературу с ее зачастую минимальным присутствием правдивости и фактичности. Так что уже в связи с избранными критическими принципами такие люди не могут воспринимать друг друга всерьез. Мне не приходилось слышать, чтобы Ницше и Моммзен уделили друг другу хотя бы минимальное внимание{13}.
Однако ни тот ни другой не достиг той высоты наблюдения, откуда эта противоположность обращается в ничто и которая была тем не менее возможна. Такова была плата за перенесение принципа причинности из естествознания в историческую науку. Мы бессознательно пришли к прагматизму, поверхностно скопированному с картины физического мира, однако он скрывает и путает совершенно иначе сложенный язык форм истории, а вовсе его не раскрывает. Чтобы подвергнуть углубленному и упорядочивающему изучению всю массу исторического материала, не придумали ничего лучшего, как назначить одну совокупность явлений первичными, т. е. причинами, а прочие соответственно вторичными, и трактовать их в качестве следствий и результатов. К этому прибегли не одни практики, но также и романтики, потому что история не открыла собственной логики также и их мечтательному взгляду и потребность в установлении имманентной необходимости, наличие которой можно было ощутить, слишком велика, если только не предпочесть вовсе отвернуться от истории, как это с досадой сделал Шопенгауэр.
11Поговорим же теперь без промедления о материалистическом и идеологическом способе рассмотрения античности. В первом случае нам объясняют, что причиной опускания одной чаши весов является поднятие другой. Утверждают, что так бывает во всех без исключения случаях, – вне всякого сомнения, бьющий в самую цель довод. Итак, мы имеем здесь причину и следствие, причем, само собой разумеется, социальные и сексуальные, на худой конец чисто политические факты составляют причины, а религиозные, духовные, художественные – следствия (постольку, поскольку материалист мирится с обозначением последних в качестве фактов). Идеологи же, напротив, утверждают, что подъем одной чаши имеет причину в опускании другой, и доказывают это с той же самой точностью. Они погружаются в культы, мистерии, обычаи, в тайны стихов и линий и едва удостаивают взгляда заурядную повседневную жизнь, это прискорбное следствие земного несовершенства. И те и другие доказывают, имея причинно-следственные ряды перед глазами, что другие, очевидно, не видят или не желают видеть истинной взаимосвязи вещей, а кончают тем, что обзывают друг друга слепыми, плоскими, глупыми, нелепыми или легкомысленными, забавными придурками или пошлыми обывателями. Идеолог вне себя, когда кто-либо всерьез занимается финансовыми проблемами у греков и, к примеру, вместо того, чтобы рассуждать о глубокомысленных изречениях дельфийского оракула, говорит о широкомасштабных денежных операциях, которыми занимались жрецы оракула, используя свезенные к ним сокровища. Политик же мудро усмехается над тем, кто растрачивает свое вдохновение на священные формулы и на одеяние аттических эфебов, вместо того чтобы написать книгу об античной классовой борьбе, усыпав ее множеством расхожих современных словечек.
Предвестника одного из этих типов мы видим уже в Петрарке. Это он создал Флоренцию и Веймар, понятия Возрождения и западного классицизма. С другим можно было столкнуться уже начиная с середины XVIII в., с началом цивилизованной, проникнутой экономическими принципами мировых столиц политики, а значит, поначалу в Англии (Грот). Собственно говоря, здесь друг другу противостоят представления культурного и цивилизованного человека – противоположность, которая слишком глубока и чересчур человечна для того, чтобы дать почувствовать слабость обеих точек зрения, уж не говоря о том, чтобы ее преодолеть.
Также и материализм ведет себя в данном вопросе идеалистически. Также и он, сам того не зная и не желая, поставил свои воззрения в зависимость от собственных желаний. На самом же деле все без исключения лучшие наши умы с благоговением склонялись перед образом античности и лишь в этом единственном случае отказывались от права на не знающую пределов критику. Свобода и размах в исследованиях античности постоянно сдерживались какой-то почти религиозной робостью, что затемняло их результаты. Во всей истории не существует другого подобного примера столь пламенного культа, который бы воздавала одна культура в отношении памяти о другой. Выражением этой преданности было также и то, что начиная с Возрождения мы идеалистически связали древность и Новое время «Средневековьем», более чем тысячелетием недооцененной, едва ли не презираемой истории. Мы, западноевропейцы, принесли в жертву «древним» чистоту и независимость нашего искусства, когда отваживались творить лишь с оглядкой на «несравненный образец». Мы всякий раз вкладывали, вчувствовали в наш образ греков и римлян то, чего были лишены, но на что надеялись в глубине собственной души. Когда-нибудь проницательный психолог поведает нам историю этой роковой иллюзии, историю того, что мы всякий раз почитали в качестве античного начиная со времен готики. Мало задач, которые были бы поучительнее для внутреннего понимания западной души, начиная с Оттона III, этой первой жертвы Юга, и вплоть до Ницше, последней его жертвы.
В своих итальянских путешествиях Гёте с воодушевлением рассуждает о постройках Палладио, чей холодный академизм встречает ныне с нашей стороны скептическое отношение. Потом он осматривает Помпеи и с нескрываемым неудовольствием говорит о «диковинном, наполовину неприятном впечатлении». То, что было им сказано о храмах в Пестуме и Сегесте, этих шедеврах греческого искусства, носит принужденный и малозначительный характер. Очевидно, он не признал во всем этом той античности, которая некогда встала перед ним воочию во всей своей мощи. Однако то же происходило и со всеми прочими. Они избегали помногу наблюдать античность, и таким образом им удавалось сберечь свой внутренний образ. Их «античность» всякий раз была фоном для жизненного идеала, созданного ими самими и напитанного лучшей их кровью, она была вместилищем для их мироощущения, призраком и идолом. В ученых кабинетах и поэтических кружках слышны восторженные отзывы о смелых изображениях сутолоки больших античных городов у Аристофана, Ювенала и Петрония, о южных грязи и черни, диком шуме и потасовках, о тамошних мальчиках для удовольствий и тамошних Фринах, о фаллическом культе и оргиях Цезарей, однако ту же самую действительность нынешних мировых столиц люди склонны обходить стороной, сетуя и презрительно морща нос. «Скверно жить в городах: слишком уж много там баб в течке». Так говорил Заратустра. Они превозносят государственную мудрость римлян и презирают того, кто ныне не избегает всякого соприкосновения с общественными делами. Есть род знатоков, видящих магическую силу в различии между тогой и сюртуком, между византийским цирком и английской спортплощадкой, античными альпийскими шоссе и трансконтинентальными железными дорогами, триерами и скоростными пароходами, римскими копьями и прусскими штыками, и эта магическая сила гарантированно убаюкивает свободу суждений. Даже Суэцкий канал, смотря по тому, построил ли его фараон или современный инженер, представляется этим людям не одним и тем же. Паровая машина оказалась бы для них символом человеческой страсти и выражением духовной энергии лишь тогда, когда бы ее изобрел Герон Александрийский. Им кажется кощунством, когда вместо того, чтобы рассуждать о культе Великой Матери на горе Пессинунта, заговаривают о римских центральном отоплении и счетоводстве.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См. сноску 907.
2
Вот имевший гигантское значение и не преодоленный до сих пор промах Канта: вначале он совершенно схематически связал внешнего и внутреннего человека с многозначными и прежде всего не неизменными понятиями пространства и времени, а тем самым абсолютно ненадлежащим образом увязал и геометрию с арифметикой, вместо чего здесь следовало бы по крайней мере назвать куда более глубокую противоположность математического и хронологического числа. И геометрия, и арифметика – это пространственные исчисления, в высших своих областях вообще неразличимые. Исчисление времени, понятие которого на уровне ощущений предельно ясно простецу, отвечает на вопрос когда, а не что и сколько.
3
Надо быть в состоянии прочувствовать, насколько глубина формального комбинирования и энергия абстрагирования в области, например, исследования Возрождения или истории Великого переселения народов отстают от тех, которые являются чем-то само собой разумеющимся для теории функций и теоретической оптики. Сравнивая историка с физиком и математиком, мы видим, насколько небрежен первый, стоит ему только перейти от собирания и упорядочения материала к его истолкованию.
4
В высшей степени наивными оказались начавшиеся лишь очень поздно попытки греков создать нечто наподобие календаря или хронологии по египетскому образцу. Исчисление времени по Олимпиадам вовсе не представляет собой эры, как, например, христианское исчисление времени, а кроме того, это очень поздний, чисто литературный паллиатив, не имевший хождения в народе. Народ вообще не испытывал потребности в исчислении, при помощи которого можно было бы связать воедино опыт дедов и прадедов, пускай там отдельные ученые продолжали интересоваться проблемой календаря. Важно здесь не то, плох календарь или хорош, а находится ли он в употреблении, протекает ли в соответствии с ним жизнь общества в целом. Однако измышлением чистой воды являются как списки победителей до 500 г., так и древнейшие списки аттических архонтов или римских консулов. В отношении колонизации не существует ни одной подлинной даты (Meyer Ed., Gesch. d. Alt. II, 442; Beloch, Griech. Gesch. I, 2, 219). До V в. никто в Греции и не помышлял о том, чтобы делать выписки из отчетов об исторических событиях (Beloch, I, 1, 125). До нас дошла надпись с текстом договора между Элидой и Хереей, который должен был действовать «сотню лет начиная с нынешнего года». Что это был за год, не указано. Так что через некоторое время никто уже и не знал, как долго существует договор, и очевидно, что никто этого и не предвидел. Вероятно, эти люди настоящего вообще о нем забыли уже очень скоро. Отличительным признаком легендарно-ребяческого характера античной картины истории является то, что упорядоченная датировка таких, например, фактов, как «Троянская война», которая по отстоянию соответствует нашим Крестовым походам, была бы воспринята прямо-таки как погрешность против хорошего стиля. Также и географические познания античности оказываются далеко позади египетских и вавилонских. Эд. Мейер (Gesch. d. Alt. III, 102) демонстрирует, как на отрезке от Геродота (основывавшегося на персидских источниках) до Аристотеля приходило в упадок знание о том, как выглядит Африка. То же касается и римлян как наследников карфагенян. Вначале они пересказывали чужие сведения, а потом постепенно их забывали.
5
В противоположность этому – и без каких-либо аналогов в истории искусства – греки, в пику микенской эпохе, причем в изобилующей камнем стране, от каменного строительства вернулись обратно к использованию дерева, чем и объясняется отсутствие архитектурных остатков, относящихся к эпохе между 1200 и 600 гг. до н. э. Египетская растительная колонна изначально была каменной, дорическая же – деревянной. В этом о себе заявляет глубинная враждебность античной души к длительности.
6
Выполнил ли хоть один греческий город хотя бы одну масштабную работу, которая говорила бы о заботе о будущем поколении? Система улиц и оросительная сеть, наличие которых было доказано в микенскую, т. е. доантичную эпоху, с явлением на свет античных народов (значит, с начала гомеровского времени) пришли в упадок и оказались забыты. Чтобы понять всю необычность того факта, что буквенное письмо было перенято античностью лишь после 900 г., и то в ограниченном объеме и, несомненно, лишь для самых неотложных хозяйственных целей, что с несомненностью доказывается отсутствием эпиграфических находок, следует вспомнить, что в египетской, вавилонской, мексиканской и китайской культурах разработка письменности начинается в седой древности, что германцы создали себе рунический алфавит, а впоследствии засвидетельствовали свое благоговение перед письмом все вновь и вновь повторяющейся орнаментальной разработкой каллиграфических шрифтов, между тем как ранняя античность совершенно игнорировала множество употреблявшихся на Юге и Востоке систем письма. Мы располагаем многочисленными письменными памятниками из хеттской Малой Азии и с Крита, от гомеровской же эпохи у нас нет ни одного, ср. т. 2, с. 208 слл.
7
От Гомера и вплоть до трагедий Сенеки, сплошь на протяжении целого тысячелетия, такие мифические образы, как Фиест, Клитемнестра, Геракл, несмотря на свое ограниченное число, появляются все вновь и вновь в неизменном виде, между тем как в поэзии Запада фаустовский человек является сначала как Парсифаль и Тристан, преображаясь затем в духе эпохи в Гамлета, Дон Кихота, Дон Жуана, и, наконец, в последнем, обусловленном временем перевоплощении – предстает как Фауст и Вертер, а потом в качестве героя современного романа мировой столицы, однако неизменно это происходит в атмосфере и обусловленности определенной эпохой.
8
См. сноску 699.
9
Ок. 1000 г., т. е. с появлением романского стиля и в начале движения крестоносцев, первых проявлений новой души, монах Герберт (папа Сильвестр II), друг императора Оттона III, изобрел конструкцию часов с боем и колесных часов. Ок. 1200 г. также в Германии появились первые башенные часы, а несколько позже – карманные часы. Следует обратить внимание на весьма значительную связь измерения времени с культовым зданием.
10
У Ньютона оно называется, что весьма характерно, исчислением флуксий – с учетом определенных метафизических представлений о сущности времени. В греческой математике время вообще не встречается.
11
На историка здесь также оказывает влияние роковой географический предрассудок (чтобы не сказать вызванная географической картой суггестия), принимающий в расчет лишь одну часть света – Европу, в силу которого он чувствует себя обязанным осуществить также и соответствующее идеальное отграничение от Азии. Слово «Европа» вообще следовало бы вычеркнуть из истории. Никакого «европейца» как исторического типа не существует. В высшей степени глупо рассуждать о «европейской древности» в связи с греками (Гомер, Гераклит и Пифагор были в таком случае «азиатами»?), как и об их «миссии» по культурному сближению Азии с Европой. Все это слова, происходящие из поверхностного истолкования географической карты, и в действительности им ничего не соответствует. Лишь слово «Европа» с пребывающей под его влиянием совокупностью идей связало в нашем историческом сознании Россию с Западом в одно ничем не оправданное единство. Здесь, среди воспитанной на книгах читательской культуры, чистой воды абстракция привела к колоссальным последствиям в реальности. Эти читатели в лице Петра Великого на столетия подменили историческую тенденцию примитивной народной массы, притом что русский инстинкт справедливо и глубоко – с нашедшей свое воплощение в Толстом, Аксакове и Достоевском враждебностью – отграничивает «Европу» от «матушки России». Запад и Восток – понятия, наделенные подлинным историческим содержанием. «Европа» – пустой звук. Все великое, что произвела на свет античность, возникло под знаком отрицания этой континентальной границы между Римом и Кипром, Византией и Александрией. Все, что называется европейской культурой, возникло между Вислой, Адриатикой и Гвадалквивиром. И если мы примем, что во времена Перикла Греция «располагалась в Европе», теперь она там больше не находится.
12
Ср. с. 525, 748 слл.
13
Windelband, Gesch. d. Phil. (1900). S. 275 ff.
14
В Новом Завете полярная точка зрения представлена по преимуществу диалектикой апостола Павла, периодическая – Апокалипсисом.
15
В этом можно убедиться по продиктованному отчаянием и смехотворному выражению «Новейшая история».
16
Burdach К. Reformation, Renaissance, Humanismus (1918). S. 48 ff.
17
Выражение «древние», в дуалистическом смысле, встречается уже во «Введении» Порфирия (ок. 300 по Р. X.).
18
«Человечество? Это абстракция. Извечно существовали одни только люди, и будут существовать только люди» (Гёте – Лудену){706}.
19
«Средневековье» – это история области, в которой господствовал латинский – церковный и ученый – язык. Исполинские судьбы восточного христианства, задолго до Бонифация продвинувшегося через Туркестан до Китая и через Сабу до Абиссинии, не принимаются этой «всемирной историей» в расчет.
20
Ср. сноску 707. Базовые представления дарвинизма видятся настоящему русскому столь же нелепыми, как соответствующие представления коперниканской системы – арабу.
21
Решающим обстоятельством был подбор уцелевшего, который определялся не одним только случаем, но в очень значительной степени тенденцией. Понятие классицизма было сформировано аттицизмом эпохи Августа – утомленным, бесплодным, педантичным, оглядывающимся назад, и он и признал в качестве классических весьма небольшую группу сочинений греческих авторов вплоть до Платона. Прочее, в том числе вся богатая эллинистическая литература, было отброшено и почти полностью утрачено. Эта подобранная на учительский вкус группа, которая по большей части уцелела, и определяла потом воображаемый образ «классической древности» как во Флоренции, так и для Винкельмана, Гёльдерлина, Гёте и даже Ницше.
Комментарии
1
Стихотворение из цикла «Кроткие ксении», ч. VI. По-немецки:
Wenn im Unendlichen dasselbeSich wiederholend ewig flieβt,Das tausendfältige GewölbeSich kraftig ineinander schlieβt;Stromt Lebenslust aus alien Dingen,Dem kleinsten wie dem gröβten Stern,Und alles Drängen, alles RingenIst ewige Ruh in Gott dem Herrn.2
«Буря и натиск» (Sturm und Drang) – романтическое направление в немецкой литературе конца XVIII в.
3
Ср. о «переживании» ниже, в т. 2, наш коммент. 191.
4
Подробнее о С. Родсе см.: Давидсон А. Сесиль Родс и его время. М., 1984.