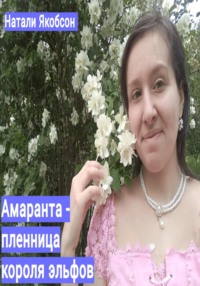Полная версия
И имя ему Денница
– Ювелир? – его черные брови разошлись так насмешливо, будто он услышал жуткую глупость. – Как мало ты еще знаешь.
– Я вижу, что камень редкий. Он что-то символизирует? Это ведь не солнечный диск, который, наверное, теперь положено носить всем. Знак другого божества?
Сменхкара не счел нужным отвечать.
– Этот камень еще более надежен, чем магнит. Он всегда вернется к своему владельцу, даже если ты проиграешь его или пропьешь, или подаришь, он все равно останется твоим, потому что обожжет чужие руки и снова притянется к тебе. У него может быть только один хозяин, но достать такой камень практически невозможно. Его нельзя ни сорвать, ни украсть. Только если она сама тебе его даст.
– Кто?
Сменхкара молчал, как будто вовсе не слышал вопроса. Его черные брови идеальной формы задумчиво сошлись на переносице, мускулистые руки в браслетах почему-то казались скованными.
– Я тоже хотел бы такой камень.
– Еще рано. Приходи ко мне позже, когда пройдут торжества. Тогда, вероятно, будет самое время.
Почему не время сейчас? Таор смотрел, как Сменхкара удаляется. Больше у него здесь не было друзей. Так что ему не от кого было ожидать добрых слов, но и открытого нападения вроде бы ожидать тоже было не от кого.
Он не обратил внимания на человека, стремительно продвигавшегося к нему через толпу. Лишь когда острое лезвие разрезало воздух в миллиметре от его лица, Таор отшатнулся. Оружие вонзилось в колонну. Юноша ощутил, как по щеке из пореза бежит кровь. Все, как тогда на поле боя, когда его могли убить, но только ранили в висок. Будто кто-то невидимый оттолкнул его и сейчас. Еще раз! Все повторяется. Все замкнуто, как в круге.
Таор ошеломленно смотрел, как стражи-нубийцы скрутили нападавшего. Из его руки выпал и звякнул об пол еще один кинжал. Судя по всему, он собирался ударить уже с близкого расстояния. Таор видел этого человека впервые. Смотреть на него он смог недолго. Стражи быстро его увели. Какой безумец мог решиться напасть на него прямо во дворце. Ведь сразу было ясно, каким будет исход событий.
Таор рассеянно стер кровь со щеки ладонью. Может ли оказаться так, что этот человек и впрямь безумен. Да, врагов у него здесь много: влиятельных, богатых, высокопоставленных. Естественно, никто из них не стал бы убивать его собственноручно. Достаточно было нанять кого-то. Убийцы дождались бы его в темном переулке. Тело сбросили бы в Нил. Он слышал о таких случаях. Так убирали людей, неугодных влиятельным особам. Убийц всегда подсылали несколько, чтобы у жертвы не осталось шанса спастись. Никто не нападал прилюдно. Ни один человек в своем уме не стал бы так делать.
– Его казнят прямо сейчас, – распорядился главный визирь.
Несложно будет предсказать, что произойдет дальше: виновного поставят на колени, наклонят ему голову и острое лезвие рассечет его шею. Таор не мог этого допустить.
– Нет! – он решительно поднял руку. – Сегодня день торжества. Пусть этого человека помилуют.
– Но…
– Я сам готов просить фараона об этом.
Ну вот, он опять выбрал путь прямого конфликта, как когда-то давно. Визирь смотрел на него с легким осуждением, но старался ничем не выдать своего возмущения. Он быстро отдал распоряжение, чтобы схваченного поместили в темницу. Там он пробудет до тех пор, пока ему не вынесут приговор. Визирь Панахеси был твердо уверен, что фараон прислушается к его советам больше, чем к прошениям своего полководца. Пусть думает так. Таор не собирался вступать в споры. Пока что он добился отсрочки казни, потом, возможно, сумеет сделать и большее.
Хотя зачем ему стараться для совершенно чужого ему человека, который к тому же собирался его убить? Он и сам не знал. Просто для него пожертвовать своими интересами ради кого-то другого было так же естественно, как дышать.
Кровь текла по щеке все сильнее. У Таора возникло ощущение, что кто-то смотрит на него из толпы, кто-то, кого не может увидеть он сам.
У выхода его догнал главный визирь. Панахеси был в гневе. Сейчас, когда рядом почти не осталось свидетелей, он уже не старался держать себя в руках.
– Ты не можешь просить, чтобы помиловали того, кто собирался тебя убить.
– Но мое прошение скоро будет в твоих руках. Тебе придется передать его фараону, хочешь ты или нет.
– Ты и так перешел сегодня все допустимые границы.
Границы?! Кто их установил? Таор отвел взгляд. Он знал, что просит слишком много, он ожидал, что его просьбу отклонят, но его право хотя бы попытаться заступиться за всех этих людей.
– Они не будут тебе благодарны, все эти люди…
– Мне это и не нужно.
– Только не говори, что ты никогда не мечтал о собственной власти, пусть это будет власть даже над небольшой провинцией Египта.
– Никогда, – ответ дался ему легко, потому что он всегда был честен и прямолинеен. Многих такая честность обезоруживала, вот и Панахеси внезапно отступил на шаг.
– Значит, ты не такой, как все.
– Как все, во дворце, это вы хотите сказать? Вам знакомы только те люди, которые рано или поздно приходят сюда. Я же общался с простыми людьми во всех частях света, мне встречались такие, кто был готов пожертвовать собой ради другого.
– При этом будучи не влюбленным в него?
Вопрос был ядовитым, как раздавленная змея, потому что Таор не понял его значения.
– На поле боя никто и ни в кого не влюблен, но кто-то всегда готов пожертвовать собой, чтобы спасти товарища, даже если не знает его имени, даже если никогда больше его не увидит по окончанию войны.
– Это все простые солдаты, но поднявший руку на тебя поднял ее на самого фараона, так как ты представляешь его.
– Но я хочу для всех мира и прощения, потому что знаю, что такое война. Так пусть его простят.
– Это глупая доброта.
– И все же так правильно, – Таор развернулся и хотел уйти. Чувство, что кто-то следит за ним, не проходило, и это был вовсе не великий визирь, приставший к нему так некстати с ненужной дискуссией. Он все решил для себя, он не хотел ничего менять в своих поступках или мировоззрении. Судьба сделала его воином, но он не хотел войны. Он умел сражаться, как если бы сам был одним из богов, но не видел необходимости в кровопролитиях. Если бы люди умели соблюдать честность, то они могли бы договориться обо всем мирным путем. Так он считал и не собирался изменять своего мнения.
Его доспехи мелодично звякнули, когда Таор уходил. Сандалии чуть царапнули пол.
– Ты не можешь спасти весь мир, – догнал его в дверях разгневанный голос Панахеси.
– Но я имею право попытаться.
Таор возразил ему, лишь слегка обернувшись, но золотая тень вдалеке поразила его, как вспышка молнии. Голову обожгло, сердце опалило… Что же это такое? Наваждение! Или возле уже опустевшего трона фараона действительно кто-то стоял и смотрел на него, будто на насекомое, которое когда-нибудь непременно будет раздавлено.
Всесокрушающая власть
Одним днем раньше
Они не хотели подчиняться. Бунты случались и до этого. Алаис привыкла. Новый фараон хотел слишком многого. Едва взойдя на престол, он уже повел себя не так, как все его предшественники: его отцы, деды, прадеды, вся царственная династия Египта, почитаемая наравне с богами. Аменхотеп тоже почитался земным богом, но Алаис знала, что он им не был. И он тоже это знал. С тех пор, как темный крылатый любовник покинул его, Аменхотеп, нынешний Эхнатон, сознавал, что он, так же, как и каждый простой представитель его народа, всего лишь смертный. Он не хотел с этим мириться. Уже на второй год правления он выбрал себе другое имя и другую судьбу, чем у всех, кто сидел до него на египетском троне. Он захотел стать богом в действительности. Алаис нисколько не возражала его слабым попыткам видоизмениться, ведь, в конце концов, все, что он делал, он делал ради нее.
Теперь Египтом правила она, как и всеми его провинциями. Но кому-то это не нравилось. Хоть они и видели крылья за ее спиной, но неискренне поклонялись ей, как божеству. Им становилось жутко при виде ее лица, гипнотизировавшего неземной красотой, но их смущало девичье тело.
Особенно оно смущало главнокомандующего Уджаи. По давно установленным неписанным законам преимуществ здесь он чувствовал себя самым сильным. Причем дело было не только в физической мощи, которая могла показаться всесокрушающей. Он ощущал себя главным над всеми военными силами страны, и это давало ему безоговорочное преимущество. Со всеми, кроме правителя, он вел себя бесцеремонно и заносчиво. К дочери фараона, как вначале ему представили Алаис, он зажегся низменной симпатией, но как только получил отказ, люто ее возненавидел. Когда-то он присылал ей драгоценности и цветы, а теперь готов был сокрушить стены голыми кулаками, лишь бы только причинить ей вред. Алаис питалась его яростью, как источником живительной энергии. Когда люди злятся, гневаются, неистовствуют или просто переживают из-за чего-то, их силу так легко воровать. Это все, что ей было нужно от людей – выпить из них всю жизнь, как сок из фрукта.
Хорошо, что Уджаи об этом не знал, иначе он сделал бы над собой усилие и сдержал свои эмоции. Сегодня он собрал целый полк людей, разделяющих его мнение. Он легко подбивал других на рискованные поступки. Поэтому следовало его устранить. Он в свою очередь мечтал устранить ее. Кто кого? Алаис смотрела на него, и глаза ее смеялись. Смертный не знал, с какой силой связался.
– Я понимаю, почему я должен исполнять приказы фараона, но почему я должен слушаться тебя? Почему все мы должны?
Другие не поддерживали его одобрительным гоготом лишь потому, что немного побаивались высокомерного создания с крыльями и золотыми когтями, но они продолжали стоять чуть поодаль от Уджаи. Целое маленькое войско, расположившееся полукругом в большой дворцовой зале.
Стоило изучить их всех перед тем, как уничтожить, хоть времени было и мало. Что-то подсказывало Алаис, что зачинщик здесь совсем не Уджаи. Кто-то, более скрытный и опасный, притаился за скопищем человеческих голов и тел. Она втянула ноздрями запах жестокости и зла. Кто бы не был этот человек, но сейчас он поранился, как ему показалось, совершенно случайно. Всего лишь булавочный укол. Так действовали служившие ей существа с железными когтями. Они шастали по полам дворца, и никто не отличил бы их от кошек. По запаху крови будет легко его обнаружить.
– Ты! – Алаис вытянула руку вперед и указала прямо на пораненного. – Говори сам за себя! Никто не обязан озвучивать за тебя твои мысли и желания, даже если ты привел его с войском в эту залу.
Уджаи ничего не смог на это возразить. Он вдруг ощутил, что теряет способность говорить вообще. Горло сдавило, как удавкой. Другие собравшиеся украдкой переглядывались. Они-то знали, кто их сюда привел. Но откуда узнала она? Страх и подозрение это первое оружие, чтобы смутить врага. Алаис осознавала свою силу.
Зачинщику никуда было от нее не деться. Его кровь притягивала, как изысканный аромат вина. Он обрек себя, едва выступил против нее. И уже не важно было даже, кто был он сам: один из жрецов, не поддерживавших культ Атона, недовольный чиновник или затерянный в гареме сын фараона, позавидовавший, что она выбрала Сменхкару, а не его. Алаис пошла на запах крови, попутно парализуя взглядом всех, кто попадался на пути. Те, кто видел ее, теперь знал: божеству не возразишь, ты просто не сможешь раскрыть рта, когда оно будет произносить свою истину, с божеством не вступишь в противоборство, потому что в его присутствии оцепенеешь. Глупы были те, кто посчитал иначе.
Зачинщик изошел кровью еще до того, как она его коснулась. Тело покрылось красными волдырями, словно его облили кипятком. Он разложился еще до того, как умер. Но вместе с ним сыпью покрылись еще с десяток воинов. Они то ей ничего не сделали, но погибали так же. Их число все увеличивалось, пока не превысило половину собравшихся. Уджаи смотрел и не верил своим глазам. Его лучшие люди опускались на колени или падали, распластавшись, на пол, и в мгновение ока превращались в мерзкие гниющие останки, будто кто-то выпивал из них всю жизнь.
– Вместе с каждым не подчинившимся я убью еще сорок невиновных, – пояснила Алаис. Безразлично. Как безразлично она это сказала, как будто раздавила насекомых, которые того заслуживали.
Ее золотые ногти не были в крови, но, смотря на это создание, Уджаи невольно представил, что когда-нибудь на нем будет кровь всего мира. И это существо он когда-то любил. Считал, что любил?
А разве сам ты поступал лучше, спрашивал голос совести в отдаленном уголке его сознания, разве сам ты не рубил людей сотнями в сражениях, не отдавал приказы наступать и не щадить никого. Уджаи заливал память о сечах вином. Алаис никогда ничего не ела и не пила, разве только человеческую кровь. Она не зарубила в битве сотен людей, всего извела колдовством сорок человек. Но как она это сделала… С каким удивительным равнодушием! Как будто отнять жизни людей всего мира было ее священным правом.
– Сорок это число моего бога, – все так же спокойно пояснила она, но так что б слышали все. – Запомните, что вместе с каждым виновным будут умерщвлены сорок ни в чем не повинных людей из его ближайшего окружения. Или просто дорогих ему людей.
– И так велит Атон? – Уджаи наконец-то снова обрел дар речи.
– Атон? – ее изящные брови изумленно изогнулись. – При чем тут Атон?
Казалось, сейчас раздастся ее смех, но в зале царила удивительная тишина.
– Ты сказала «твой бог», – все-таки вымолвил Уджаи. – То есть бог солнца?
И опять коварная улыбка. Что за ней скрывалось? Это существа знало, куда больше, чем говорило им всем, и даже фараону. Как ловко оно манипулировало здесь всеми и всем! Как восхитительно оно выглядело! Он ненавидел Алаис и все же не мог отвести от нее глаза. Хотелось смотреть на нее и смотреть, пока окончательно не лишишься рассудка. Так смотрит на солнце тот, кто обречен сгореть в его лучах. Уджаи чувствовал себя сейчас таким приговоренным, которого подвесили высоко в горах в пустыне, чтобы дать ему целиком обгореть – долгая мучительная казнь. Он знал об этом не понаслышке. Алаис взмахнула темными крыльями, развеивая все его иллюзии. Создание из золота, мрака и силы солнечного огня.
– Первое имя бога солнца не было Атон, – Алаис смотрела на него, уже не смеясь.
– Какая разница? Египтом правишь ты, а не он. От его имени, но все равно нам всем придется поклониться тебе. Вместо культа Атона потом будет культ Алаис, и не важно есть ли бог вообще.
– Не в твоей власти посмотреть на того, кто считался богом изначально и при этом не лишиться рассудка, человек.
Последнее слово вызвало у него гнев. Насекомое, вот, как она хотела его на самом деле назвать. Люди были для нее всего лишь насекомыми. И не важно, кто они: рабы, таскающие блоки для пирамид или царские приближенные – все они просто люди. Просто те, кто живут и умрут, от кого в итоге останется лишь горстка гниющего мяса и костей, а она – другая. В ней нет ничего человеческого.
Она больше была похожа на скульптуру, отлитую в золотых тонах. Каменные черты ничего не выражали, и вместе с тем холодное лицо казалось чем-то уязвимым, почти беззащитным. Он не мог любить ее. Ему захотелось ударить это соблазняющее лицо, такое гордое и такое невинное, в лазурных глазах промелькнула даже какая-то наивность, а потом они вдруг стали зелеными, как изумруд, как кошачьи глаза Бастед. Он не вспоминал о богинях давно, грубость в его опыте была главным, он бил женщин в своем гареме, бил шлюх на ночных берегах Нила, бил рабов и рабынь, но не посмел бы замахнуться на дочь фараона, пусть даже не настоящую, однако его рука невольно сжалась в кулак, и тут Алаис ловко перехватила ее, как будто собиралась пожать. Его поразила даже не сила этого пожатия, а то, что вся рука вдруг вспыхнула, как в огне. Какая боль! Он зажмурился, стиснул зубы, чтобы не кричать, но крик все равно прорвался. Рука пузырилась и шла багровыми пятнами. Пятна превращались в язвы, разъедающие плоть. Всего несколько секунд, и от руки не осталось ничего, кроме обуглившихся останков. Теперь он кричал во все горло, уже не сдерживая себя. А Алаис смотрела все так же безразлично, и уже не ясно было, куда устремлен ее взгляд: на искалеченного вояку или на все скопище человеческих существ в целом, абсолютно лишнее в этой зале, где поселилось божество.
Пусть оставшиеся живут, как предупреждение для других. Их меньше сорока. Алаис поманила золотым когтем того, кто на вид был самым юным и наивным. Из ее поля зрения он уже никогда не уйдет. Возможно, у него останутся целыми и руки, и ноги, но… Алаис искала место, на котором она поставит свою печать. Ухо, палец, плечо, шея… лучше прямо на лбу, под прядью волос. Она поднесла свои когти к его лбу. Они острые, как бритвы и горячие, как раскаленный диск солнца. Нужно прижать их к человеческой коже всего лишь раз, и человек станет ее рабом на всю свою жизнь.
Первое впечатление
Таор не знал, что ему здесь делать. Вроде бы он выполнил все, к чему обязывал его церемониал, и волен был уйти, но ему велели остаться во дворце на правах почетного гостя.
– Впереди дни празднеств, – объяснил ему Сменхкара.
– Каких празднеств? – юноша был изумлен. На это время года не приходилось никаких праздников, разве только… он забыл о том, что вместо всех прежних богов теперь остался только один, а значит и даты религиозных торжеств тоже перенесены на другое время. Он не стал расспрашивать об этом подробно, чтобы не показать себя простаком. В хитросплетениях светской и религиозной жизни он действительно разбирался плохо. Военное дело – вот единственное, в чем он что-то понимал.
Жаль, что воспоминания о победе были чем-то омрачены. Он часто закрывал глаза и представлял себе темную тучу над полем боя, где мертвые оживали и снова кидались в схватку. На свете, должно быть, происходит много чудес, но такого он не наблюдал раньше никогда. Многое на последней войне могло показаться странным и неправдоподобным. Казалось, что темные дворцовые зеркала в сумерках снова начинают отражать ту битву. Но кругом было спокойно. Единственным напоминанием о войне здесь были люди в убогих одеждах, снующие по праздничной толпе – то были пленники, которых он предложил отпустить, и которые пожелали остаться тут на правах гостей на время торжеств. Их можно было понять. Угощение и выпивка – вот, что прельщало здесь людей, оставленных войной без крова и лишившихся всего нажитого. Останутся ли они в Египте навсегда, подыскав места слуг? Или же, отдохнув, отправятся назад на разоренные земли, откуда они родом?
Таор даже до сих пор не знал названия этого племени. Он не понимал их языка и не мог ничего у них спросить, да и не осмелился бы вступать в разговор с побежденными. От них исходила какая- то озлобленность, что-то мрачное, и он каждый раз отводил глаза, наткнувшись взглядом в толпе на кого-то из них.
Их лица оказались на вид удивительно неприятными, кожа землистой, глаза какого-то неприятного оттенка, отдающего краснотой. Черты лица тоже имели мало общего с лицами египтян и представителей любых других знакомых ему народов. Заостренные носы, заостренные уши, брови, похожие на крылья, безгубые рты… со стариками это еще было объяснимо, но он никогда не видел таких уродливых женщин и детей. Возможно, для их племени подобные особенности внешности и считались нормальными, но египтянину было неприятно на это смотреть.
Таор внезапно вспомнил Уджаи, его высохшую конечность и безнадежное отчаяние в глазах.
Возможно, эти люди и не родились такими уродцами, а что-то случилось во время войны, что изуродовало их лица и тела. Но что? Что могло случиться с женщинами и детьми, которые сами не выходили на поле боя и даже близко не подходили к опасным территориям, где дрались мужчины. Таор недоумевал… Вероятно, в местных пустынях таилось нечто нездоровое, что так отражалось на внешности местного населения. Каждый человек красиво выглядит до тех пор, пока ничем не болен. Один наставник как-то давно в детстве говорил ему, что все люди мира, как плоды или цветы, посади их на не благодатную почву, и от внешней красоты ничего не останется. Плод сгниет, цветок зачахнет, а человек от тяжелого труда и отсутствия комфорта станет немощным и непривлекательным на вид. Насколько Таор заметил, в этом состояла доля правды. Женщины, родившиеся в бедности, действительно дурнели поразительно быстро, а вот те, что обитали во дворцах, напоминали прекрасные цветы.
Лотосы в дворцовых садах тоже казались более красивыми, чем в любом другом месте. Таор присел прямо на земле перед одним из прудов. Здесь его и нашел царский посыльный, принесший маленький свиток в золотой оправе. Он думал, что это приглашение на очередное торжество, но нет – дочери фараона прислали ему приглашение явиться и рассказать о своих военных подвигах. Внизу стояли подписи. Таор вздрогнул, ожидая увидеть новое имя, которое до этого не знал – имя того золотого создания из тронной залы. Она ведь тоже должна быть царевной, так ему показалось, по крайней мере. Но в списке были лишь уже известные ему имена царевен: Меритатон, Сетепенра, Нефернефриатон-ташерит, Анхесенпаатон. Все, кто одаривал его своим вниманием задолго до этого. Единственным странным было последнее имя: Макетатон – уже мертвая дочь фараона. Сама она никак не могла подписаться под этим приглашением. Наверное, это ошибка.
Таор не знал, что ответить на это приглашение. Сейчас он никому не мог составить компанию. В голове была свистящая пустота. Наверное, после последней битвы он немного обезумел. Вероятно, те пустыни были прокляты и не стоило туда ехать, но он должен был защищать земли Египта от нападавших. В тех пустынях он растерял всю свою привычную жизнерадостность, а вынес с собой что-то мрачное и давящее. Каждый раз, когда он пытался заснуть, битва в его снах продолжалась: свистели стрелы, вставали мертвецы, звучал голос с небес, только куда более четко, чем он слышал давно в реальности. Голос, как золотой луч, раздиравший черные облака. Кажется, вместо дождя во снах с небес лилась кровь, и он ощущал ее потоки на своем лице. Кожа окрашивалась алыми сгустками, мир вокруг становился уродливым, а голос с небес был божественно красив.
– Я выбираю тебя, – произносил он, и Таор просыпался с ощущением того, что меч, который кто-то вложил в его руку, должен истребить всех и в том числе его самого в поисках одной единственной жертвы.
Это просто сны, утешал он себя. В прежние времена он сходил бы в храм, принес жертвы и спросил у жреца совета, как истолковать эти сновидения, но сейчас остались лишь храмы Атона. Этот бог почему-то его отталкивал. Вероятно, потому что занял место всех остальных. Такая абсолютная власть пугала, и то, как внезапно это случилось. Не стало ничего, осталось только солнце. Весь пантеон знакомых богов отныне отсутствовал, был заменен лишь одним. Как будто кто-то один из членов большой семьи вырезал всех остальных, чтобы утвердиться в своей власти.
Таору это не нравилось. Но что он мог сделать? Все решает фараон, который сам почитается, как бог на земле, а простые смертные должны ему лишь подчиняться. Так устроен мир. Так устроен Египет. Но кто и почему устроил все так? Кто в действительности тот, кто прячется там, в небесах, как золотой голос? Один обитатель небес или их множество?
Раньше ему в голову никогда не приходили такие мысли. Он был простым юношей, смыслящем только в военном ремесле и самых разных боевых искусствах. Правление страной – не его удел. Переосмыслить нормы религии или структуры власти тоже ему не дано. Он просто в этом ничего не понимает.
Единственное, что привлекло его внимание в тронном зале это золотой силуэт за спинкой трона. Ничего красивее он в свой жизни не видел. Где увидеть ее еще раз? Таор озирался по сторонам. Где-то во дворце ее, конечно же, можно встретить, но где? Пока что ему не везло, хотя он слонялся туда – обратно целый день. Возможно, она до сих пор не выходила из своих покоев или из покоев самого фараона. Может ли она быть ему женой, а не дочерью, очередной царицей Египта выше Кийи и Нефертити. Но тогда, почему никто о ней не говорит, не прославляет ее имя, как это положено? Впрочем, о Нефертити и Кийе тоже никто ничего не говорил, как будто их больше и не было. А в тронном зале не присутствовал даже никто из гарема. Фараон был один, не считая золотого крылатого создания рядом с ним, которое как будто никто не видел.
Таор хотел спросить у кого-нибудь о ней напрямую, но все никак не решался. Нутром он чувствовал, что этого не стоит делать. Есть такие вещи, о которых живым людям лучше не говорить вслух, как о мертвецах, оживающих на поле боя в битве, из которой он сам недавно вернулся.
Лотосы в садовом пруду источали странный аромат, как будто запах смерти. Они все были белыми. Никакого разнообразия. А раньше здесь царило буйство красок.
Юноша откинул иссиня-черные пряди волос со лба и посмотрел на свое отражение в воде. Его лицо осталось красивым и без шрамов, как будто он не побывал только что в самой гуще сражения. Отметина на лбу в зеркале воды почему-то не отражалась. Таор нахмурился.