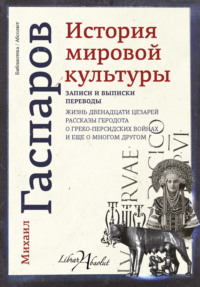Полная версия
Собрание сочинений в шести томах. Т. 6. Наука и просветительство
Если такие споры никогда или почти никогда не приводят к полному единомыслию, то зачем они нужны? Затем, что они учат нас понимать язык друг друга. Сколько личностей, столько и языков, хотя слова в них сплошь и рядом одни и те же. Разбирая толстую стену взаимонепонимания по камушку с двух сторон, мы учимся понимать язык соседа – говорить и думать как он. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить себя. Почему Рим победил Грецию, хотя греческая культура была выше? Один историк отвечает: потому что римляне не гнушались учиться греческому языку, а греки латинскому – гнушались. Поэтому при переговорах римляне понимали греков без переводчика, а греки римлян – только через переводчиков. Что из этого вышло, мы знаем.
Сколько у вас бывает разговоров в день – хотя бы мимоходных, пятиминутных? Пятьдесят, сто? Ведите их всякий раз так, будто собеседник – неведомая душа, которую еще нужно понять. Ведь даже ваша жена сегодня не такая, как вчера. И тогда разговоры с людьми действительно других языков, вер и наций станут для вас возможнее и успешнее.
И последнее: чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя, а не за чье-либо общее мнение. Когда в Гражданскую войну к коктебельскому дому Максимилиана Волошина подходила толпа, то он выходил навстречу один и говорил: «Пусть говорит кто-нибудь один – со многими я не могу». И разговор кончался мирно.
Нас очень долго учили бороться за что-то: где-то скрыто готовое общее счастье, но его сторожит враг, – одолеем его, и откроется рай. Это длилось не семьдесят лет, а несколько тысячелетий. Образ врага хорошо сплачивал отдельные народы и безнадежно раскалывал цельное человечество. Теперь мы дожили до времени, когда всем уже, кажется, ясно: нужно не бороться, а делать общее дело – человеческую цивилизацию; иначе мы не выживем. А для этого нужно понимать друг друга.
Я написал только о том, что доступно каждому. А что должно делать государство, чтобы всем при этом стало легче, я не знаю. Я не государственный человек.
ФИЛОЛОГИЯ КАК НРАВСТВЕННОСТЬ
(ДИСКУССИЯ В ЖУРНАЛЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»)Филология – наука понимания. Слово это древнее, но понятие – новое. В современном значении оно возникает в XVI–XVIII веках. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук – историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса – античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу и подобию: Энея – рыцарем, а Сократа – профессором. Возрождение почувствовало, что здесь что-то не так, что для правильного представления об античности недостаточно привычных образов, а нужны и непривычные знания. Эти знания и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская; за филологическим подходом к древности и средневековью – филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это оттого, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу.
Признание это дается нелегко. Мышление наше эгоцентрично, в людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно замечаем то, что на нас непохоже. Гуманизм многих веков сходился на том, что человек есть мера всех вещей, но когда он начинал прилагать эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по человеку вообще, а то по афинскому гражданину, то по ренессансному аристократу, то по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих веков говорил о вечных ценностях, но для каждой эпохи эти вечные ценности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям собственной эпохи. Урезывание такого рода – дело несложное: чтобы наслаждаться Эсхилом и Тютчевым нет надобности помнить все время, что Эсхил был рабовладелец, а Тютчев – монархист. Но ведь наслаждение и понимание – вещи разные. Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя (иначе как в порядке самообмана), а можно – лишь преодолев историческую дистанцию; и наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология.
Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него, – учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. Рядовой читатель вправе относиться к литературным героям «как к живым людям»; филолог этого права не имеет, он обязан разложить такое отношение на составные части – на отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние между Гаевым и Чеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом (я в этом не уверен). Но чтобы уловить расстояние между Чеховым и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя – одинаково со стороны и одинаково критически.
Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее. Когда мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший вопрос: для кого она написана? – потому что знаем простейший ответ на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто будет читать его через столетия, но заведомо ясно, что не нас с вами. Есть люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликованными письма Пушкина, Чехова или Маяковского: «ведь они адресованы не мне». Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает «Евгения Онегина», «Вишневый сад» или «Облако в штанах». Искупить эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением в своем высоком собеседнике. «Мой Пушкин» – принижает Пушкина, «Пушкинский я» – возвышает меня.
Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка, а слова чуждого языка прежде всего испытываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал – не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и собственное наше лицо – настоящее, неискривленное. Если же смотреть только на изображение («идти по ту сторону слова», как предлагают некоторые), то следует знать заранее, что найдем мы там только самих себя.
За преобладание в филологии спорят лингвистика и литературоведение, причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературоведение оборонительные (или, скорее, отвлекающие). Думается, что это неслучайно. Филология началась с изучения мертвых языков. Все мы знаем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые литературы, и даже на живых языках. Даже читая литературу XIX века, мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык – в самом широком смысле: лексическом (каждый держал в руках «Словарь языка Пушкина»), стилистическом (такой словарь уже начат для поэзии ХX века), образном (на основе частотного тезауруса: такие словари уже есть для нескольких поэтов), идейном (это самая далекая и важная цель, но и к ней сделаны подступы). Только когда мы сможем опираться на подготовительные работы такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотя бы те, которые возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным интерпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писателей и сотворчеством их читателей и исследователей.
И еще одно есть преимущество у лингвистической школы перед литературоведческой. В лингвистике нет оценочного подхода: лингвист различает слова склоняемые и спрягаемые, книжные и просторечные, устарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и плохие. Литературовед, наоборот, явно или тайно стремится прежде всего отделить хорошие произведения от плохих и сосредоточить внимание на хороших. Филология значит «любовь к слову»: у литературоведа такая любовь выборочней и пристрастнее. От пристрастной любви страдают и любимцы, и нелюбимцы. Как охотно мы воздаем лично Грибоедову и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Шаховской и Потапенко! Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, которые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом – нравственный долг каждого, а филолога – в первую очередь.
Ю. М. Лотман сказал: филология нравственна, потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли. Я бы добавил: нравственны в филологии не только ее путь, но и ее цель – она отучает человека от духовного эгоцентризма. (Вероятно, все искусства учат человека самоутверждаться, а все науки – не заноситься.) Каждая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого, каждая эпоха склонна думать, будто прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нее поставлять кирпичи. Постройки такого рода часто разваливаются: старые кирпичи выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой стройке чем-то вроде ОТК, проверяющего правильное использование материала. Филология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру.
Примечание псевдофилософское (из дискуссии на тему «Философия филологии»)Прежде всего, мне кажется, что формулировка общей темы парадоксальна. (Может быть, так и нужно.) Филология – это наука. А философия и наука – вещи взаимодополняющие, но несовместимые. Философия – это творчество, а наука – исследование. Цель творчества – преобразовать свой объект, цель исследования – оставить его неприкосновенным. И то, и другое, конечно, одинаково недостижимо, но эти недостижимые идеалы диаметрально противоположны.
Философия филологию может только разъедать с тыла. Точно так же, впрочем, как и филология философию. Тот тыловой участок, с которого филология разъедает философию, хорошо известен: это история философии, глубоко филологическая дисциплина. Неслучайно оригинальные философы относятся к истории философии с нарастающей нервностью, потому что на ее фоне любые притязания на оригинальность сразу выцветают. Поэтому естественно, что и философия ищет для себя в тылу науки такой же надежный плацдарм. Он и называется «философия филологии», «философия астрономии» и т. д., по числу наук. Располагая такими позициями, философия и филология могут сплетаться садомазохистским клубком сколь угодно долго. Очень хорошо – лишь бы на пользу.
Есть предположение, что филология не просто наука, а особенная наука, потому что предполагает некоторое интимное отношение между исследователем и его объектом. Об этом очень хорошо писал С. С. Аверинцев. Я думаю, что это не так. Конечно, интимное отношение между исследователем и его объектом есть всегда: зоолог относится к своим лягушкам и червякам интимнее, чем мы. Вот с такой же интимностью и филолог относится к Данту или Дельвигу, но не более того. Самый повседневный опыт нам говорит, что между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания; можем ли мы после этого считать, что мы понимаем Пушкина? Говорят, между филологом и его объектом происходит диалог: это значит, один собеседник молчит, а другой сочиняет его ответы на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? – вот в чем должен он дать отчет, если он человек науки.
Филология – это «любовь к слову». Что такое слово? Мертвый знак живых явлений. А явления эти располагаются вокруг слова расходящимися кругами, включающими и биографию писавшего, и быт, и систему идей эпохи, – все, что входит в понятие «культура». Каждый исследователь выбирает то направление, которое его интересует. Но вначале он должен правильно понять слово: в таком-то написании, в таком-то сочетании, в таком-то жанре (оды или полицейского протокола), в такой-то стилистической традиции это слово с наибольшей вероятностью значит то-то, с меньшей – то-то, с еще меньшей – то-то и т. д. А эту наибольшую или наименьшую вероятность мы устанавливаем, подсчитав все контексты употребления слова в памятниках данной чужой культуры. С чего начинается дешифровка текстов на мертвых языках? С того, что Шампольон подсчитывает, как часто встречается каждый знак, и в каких сочетаниях, и в каких сочетаниях сочетаний. С этого начинается и филология, поскольку она хочет быть наукой. В этом фундаменте филологических исследований, как мы знаем, сделано пока ничтожно мало. Поэтому жаловаться на «исчерпанность филологической концепции слова» никак нельзя. Жаловаться нужно на то, что практическое развертывание филологической концепции слова еще не начиналось. Когда оно произойдет, тогда мы и увидим, на что способна и на что неспособна филология.
В частности, способна ли филология производить новые смыслы, новое знание – или только устанавливать уже существующие смыслы текстов? Ровно в такой же степени, как всякая наука. Планета Нептун существовала и без Леверье, он ее только открыл: было ли это установлением уже существующего или производством нового знания? Семантика пропусков ударения в 4-стопном ямбе Андрея Белого существовала, хотя он сам себе не отдавал в ней отчета; ее открыл Тарановский – было ли это установлением существующего или производством нового? Новое знание и новые смыслы – разные вещи. Новое знание – область исследовательская, этим занимается наука; новые смыслы – область творческая, этим занимается критика. Это критика вычитывает из Шекспира то проблемы нравственные, то проблемы социальные, то проблемы психоаналитические, а то вовсе выбрасывает его за борт, как Лев Толстой. Наука рядом с нею лишь дает отчет, какие из этих смыслов вычитываются из Шекспира с большей, меньшей и наименьшей вероятностью. Такая охрана памятников старины – тоже нужная вещь. Понятно, при этом критика, как область творческая, работает в задушевном альянсе с философией, а наука держится на дистанции и только следит, чтобы они не применяли неевклидовы методы к таким словесным объектам, для которых достаточно евклидовых.
Творческий деятель стремится к самоутверждению, исследователь – к самоотрицанию. Мне лично ближе второе: мне кажется, что в самоутверждении нуждается только то, что его не стоит. Творчество необходимо человечеству, но при полной свободе оно просто неинтересно. В материальном творчестве нужное сопротивление материала обеспечивает сама природа, а законы ее формулирует наука естествознание. В духовном творчестве эти рамки для свободы полагает культура, а обычаи ее формулирует наука филология. Диалог между творческим и исследовательским началом в культуре всегда полезен (конечно, как всегда, диалог с предпосылкой полного взаимонепонимания). По-видимому, таков и диалог между философией и филологией. Пусть они занимаются взаимопоеданием, только так, чтобы это не отвлекало их от их основных задач: для творчества – усложнять картину мира, для науки – упрощать ее.
ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
(ДЛЯ ЖУРНАЛА «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»)Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.
В. О. КлючевскийСловосочетание «Наше наследие» означает «наследие, полученное нами от предков» и – «наследие, оставляемое нами потомкам». Первое значение – в сознании у всех, второе вспоминается реже. На то есть свои причины.
Спрос на старину – это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт семидесяти советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было задумано. Первая естественная реакция на этот результат – осадить назад, вернуться к истокам, все начать заново. Как начать заново – никто не знает, только спорят. Но что такое осадить назад – очень хорошо представляют все: техника таких попятных движений давно отработана русской историей.
На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа (только без ссылок на источник): прошлое России исключительно, настоящее – великолепно, будущее – неописуемо. В том, что касается настоящего и будущего, доверие к этой формуле сильно поколебалось. Зато в том, что касается прошлого, оно едва ли не укрепилось – как бы в порядке компенсации. Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно, не все заслуживает поклонения, не все необходимо для будущего, о котором как-никак приходится заботиться.
У Пушкина есть черновой набросок, ставший одной из самых расхожих цитат: «Два чувства дивно близки нам – / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам. [На них основано от века, / По воле Бога самого, / Самостоянье человека, / Залог величия его.] Животворящая святыня! / Земля была б без них мертва, / Как… пустыня / И как алтарь без божества». При этом почему-то охотнее всего цитируется среднее четверостишие, зачеркнутое самим Пушкиным, – вероятно, цитирующим льстят слова «самостоянье» и «величие». Не знаю, задумываются ли они, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен «отеческий гроб» его родного деда Льва Александровича Пушкина, и если знал, то часто ли навещал могилу.
Культ «нашего наследия» становится составной частью современной массовой культуры. Исторические романы пользуются небывалым спросом. В. Пикуль въехал в беллетристику на белом коне. Десять с лишним лет назад была элитарная Тыняновская конференция в Резекне, местный книжный магазин предложил ей все свое самое лучшее, в том числе последний роман Пикуля, и он был расхватан мгновенно. («Чтобы дарить вместо взяток», – смущенно объясняли купившие.) Сам Пикуль честно сказал в каком-то интервью: люди читают меня потому, что плохо знают русскую историю. Он был прав: лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где (боюсь) о нем вообще не упомянуто. Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовое бескультурье.
В Москве перекрасили старый Арбат под внешность 1900 года. Реставрации не получилось: в новом московском контексте вместо старой улицы появилась очень новая улица со своей внешностью и своим бытом – весьма специфическим и весьма органичным, как знает каждый москвич. В Москве этот Арбат останется выразительным образчиком советской культуры 1980‐х годов. Потом заново выстроили храм Христа Спасителя – здание, которое лучшие художественные критики считали позором московской архитектуры. Получилась такая же картонная имитация, как новый старый Арбат, только вдесятеро дороже. Теперь призывают заново построить Сухареву башню. Я бы лучше предложил поставить на Сухаревской площади памятник Сухаревой башне – насколько мне известно, памятников памятникам в мировой истории еще не было, так что это, помимо дани уважения к старине, может оказаться еще и любопытной зодческой задачей.
Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Попробуем представить, что было бы, если бы в XVIII веке Баженов реализовал свой проект перестройки Кремля – со сносом москворецкой стены, с парадным, во всю ширь, спуском к Москве-реке и т. д. В центре Москвы появилось бы нечто совсем непохожее на то, что мы видим сегодня, но мы умилялись бы этому точно так же, как сейчас – существующим стенам и башням, ибо они освящены стариной. Не исключено, что когда-нибудь те наши постройки, которым сейчас принято ужасаться, тоже станут высоко ценимыми памятниками прошлого.
Историки античности знают: когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, – ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура нимало не заслуживает пренебрежительного отношения. Как она преломляет стихийную общественную потребность «осадить назад» – это тема для исследований, которые многое откроют потомкам в нашей современности.
Но сейчас наша массовая культура – явление неуправляемое и непредсказуемое (хотя она вполне поддается управлению, и на Западе это хорошо знают). Как сквозь нее профильтруется культура прошлого, чтобы влиться в культуру будущего, – это вопрос без ответа. Подумаем лучше о том, как должна относиться к «нашему наследию» обычная культура (именующая себя иногда «высокой»), заинтересованная не только в том, чтобы воспроизводить самое себя, но и в том, чтобы порождать новое – то, что нужно будет завтрашнему дню.
Какова будет эта культура завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого – могу лишь гадать. Самыми несомненными ее особенностями покамест кажутся две: она будет эклектична и плюралистична.
Эклектична она будет потому, что эклектична всякая культура: только издали эпоха Эсхила или Пушкина кажется цельной и единой. Если бы нас перенесло в их мир и мы бы увидели его изнутри, у нас бы запестрело в глазах: так трудно было бы отличить «самое главное» от пережитков прошлого и ростков нового. В наше время история движется все быстрее, и наследия прежних эпох напластовываются друг на друга самым причудливым образом. Купола XVII века, колонны XVIII века, доходные глыбы XIX века, сталинское барокко ХX века смешиваются в панораме Москвы. Чтобы разобраться в этом и отделить перспективное от пригодного только для музеев (этих кладбищ культуры, как вслед за Ламартином называл их Флоренский), нужно разорвать былые органические связи там, где они еще не разорвались сами собой, и рассортировать полученные элементы, глядя не на то, «откуда они», а на то, «для чего они». Так Бахтин во всяком слове видел прежде всего «чужое слово», бывшее в употреблении, захватанное руками и устами прежних его носителей; учитывать эти прежние употребления, чтобы они не мешали новым, конечно, необходимо, но чем меньше мы будем отвлекаться на них, тем лучше.
«Эклектика» долго была и остается бранным словом. Ей противопоставляются цельность, органичность и другие хорошие понятия. Но достаточно непредубежденного взгляда, чтобы увидеть: цельность, органичность и проч. мы видим, лишь нарочно закрывая глаза на какие-то стороны предмета. Последовательные большевики отвергали Толстого за то, что он был толстовец, и Чехова за то, что он не имел революционного мировоззрения, – разве мы не стали богаче, научившись смотреть на Толстого и Чехова не с баррикадной близости, а так, как смотрим на рабовладельца Эсхила и монархиста Тютчева? Борис Пастернак не мог принять эйзенштейновского «Грозного», чувствуя в его кадрах сталинский заказ, – разве нам не легче оттого, что мы можем отвлечься от этого ощущения? Песня может быть враждебной и вредной от того, о чем в ней поется; но если песня сложена так, что она запоминается с первого раза, то это хорошая песня (скажет всякий фольклорист). Уже здесь, внутри творчества одного автора, в границах одного произведения мы отбираем то, что включаем в поле своего эстетического восприятия и что оставляем вне его. «Отбираем» – по-гречески это тот самый глагол, от которого образовано слово «эклектика».
Для нескольких поколений Фет и Некрасов, Пушкин и Некрасов были фигурами взаимоисключающими: кто любил одного, не мог любить другого. Теперь они мирно стоят рядом, под одним переплетом. Как происходит это стирание противоречий, этот переход от взгляда изнутри к взгляду издали? Мы не можем это описать: это дело социологической поэтики, а она у нас так замордована эпохой социалистического реализма, что не скоро оправится. Но этот «хрестоматийный глянец» – благое дело, несмотря на всю иронию Маяковского, сказавшего эти слова. Культура – это наука человеческого взаимопонимания: общепризнанный культурный пантеон, канон классиков, антологии образцов, обрастающие комментариями и комментариями к комментариям (как в Китае, как в Греции), это почва для такого комментария.