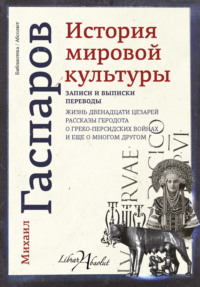Полная версия
Собрание сочинений в шести томах. Т. 6. Наука и просветительство
В самаринском отделе работал тогда еще молодой Г. Гачев; его отец только что был посмертно реабилитирован. Гачев писал о различном образе космоса в различных национальных сознаниях. «Как будто взбесившаяся газета заговорила языком Андрея Белого!» – тоскливо заметил С. Аверинцев. Но Самарин не любил Гачева за что-то другое. Обсуждалась его работа «Индийский космос глазами древних греков»: если ее не утвердят, то его уволят. Позвали меня как античника, спросили первым. Я сказал: по-видимому, хорошо и утверждения заслуживает, но, конечно, я не специалист и т. д. Самарин стал направлять дальнейшие прения: «Видите, так как античник не считает себя специалистом, то будем осторожны…» Когда он повторил это в третий раз, я сказал: «Еще раз: считаю, что заслуживает утверждения». Работу утвердили, но Гачева все равно уволили. В нашем античном секторе не было тогда заведующего, я больше года числился исполняющим обязанности. Мне сказали: «Директор давно хочет сделать вас заведующим, но Самарин против: он не прощает вам того гачевского заседания». Я не поверил. Но, видимо, это было так: когда меня наконец объявили заведующим, Самарин вызвал меня, встал из‐за стола и зычно спросил: «Ну как, будем дисциплинированными?» Я сделал соответственное лицо и ответил: «Так точно!»
Он был родом из Харькова. В начале 1920‐х годов там был хороший культурный центр, оттуда вышел А. И. Белецкий, друг моего шефа Ф. А. Петровского: украинский академик, мемориальный бюст у подъезда. Лет через десять после самаринской смерти я познакомился в писательском Доме отдыха со старой, доброй и умной переводчицей А. Андрес (письма Флобера и проч.). Она тоже была из Харькова, хорошо знала отца Самарина – гимназический, а потом школьный учитель, это он сделал людьми всех, кто вышел из Харькова. О сыне она говорить избегала. Однажды она упомянула Белецкого. Я ничего не сказал, но она перебила себя: «Вы, верно, слышали, будто Роман Михайлович – незаконный сын Белецкого? Нет? Этот слух пустил сам Роман Михайлович уже после войны – потому что старый Самарин в 1942‐м не успел эвакуироваться, оставался в Харькове при немцах и Роман Михайлович боялся, что ему, сыну, это испортит карьеру. А Белецкий появился в самаринском доме, когда Роману было уже лет четырнадцать». После этого я стараюсь о Самарине не вспоминать.
СоболевскийАнтичным сектором в институте заведовал Сергей Иванович Соболевский. Когда я поступил под его начальство, ему шел девяносто второй год. Когда он умер, ему шел девяносто девятый. Было два самых старых античника: историк Виппер и филолог Соболевский. Молодые с непристойным интересом спорили, который из них доживет до ста лет. Виппер умер раньше, не дожив до девяноста восьми. Он был хороший ученый, я люблю его старый курс греческой истории. Зато Соболевский знал греческий язык лучше всех в России, а может быть, и не только в России.
Он уже не выходил из дому, сектор собирался у него в квартире. Стол был черный, вроде кухонного, и покрыт газетами. Стены комнаты – как будто закопченные: ремонта здесь не было с дореволюционных времен. У Соболевского было разрешение от Моссовета не делать ремонта, потому что от перекладки книг с его полок может потерять равновесие и разрушиться весь четырехэтажный дом в Кисловском переулке.
Над столом с высочайшего потолка на проводе свисала лампочка в казенном жестяном раструбе. Соболевский говорил: «А я помню, как появились первые керосиновые лампы. Тогда еще на небе была большая комета, и все говорили, что это к войне. И правда, началась франко-прусская война».
Чехов для него был писатель непонятный. «Почему у него архиерей умирает, не дожив до Пасхи? жалко ведь!» «Анна Каренина» была чем-то вроде текущей литературы, о которой еще рано судить. Вот Сергей Тимофеевич Аксаков – это классик.
Он был медленный, мягкий, как мешок, с близорукими светлыми глазками; рука при пожатии – как ватная. Почерк тоже медленный, мелкий и правильный, как в прописях. Подпись – с двумя инициалами и до последней буквы с точкой на конце: С. И. Соболевский. Иначе – невежливо. Семидесятилетний Ф. А. Петровский расписывался быстрым иероглифом, похожим на бантик с фитой в середине, но что с него взять? – молодой.
«Никогда не начинайте писем „уважаемый такой-то“, только „многоуважаемый“. Это дворнику я могу сказать: „уважаемый“».
Античных авторов он читал, чтобы знать древние языки. Когда нужен был комментарий о чем-то кроме языка, он писал в примечании к Аристофану: «Удод – такая птица». О переходе Александра Македонского через снежные горы: «Нам это странно, потому что мы привыкли представлять себе Индию жаркой страной, но в горах, наверное, и в Индии бывает снег». О «Германии» Тацита: «Одни ученые считают, что Тацит написал „Германию“, чтобы предупредить римлян, какие опасные враги есть на севере; другие – что он хотел показать им образец нравственной жизни; но, скорее всего, он написал ее просто потому, что ему захотелось». Две последние фразы – из «Истории римской литературы», которую мне дали редактировать, когда я поступил в античный сектор; я указал на них Ф. А. Петровскому, он позволил их вычеркнуть.
«Вот Соломон Яковлевич Лурье пишет, что Евангелие похоже на речь Гая Гракха: „У птиц – гнезды, у зверей – норы, а человеку нет приюта“. Ну и что? Случайное совпадение. Если Евангелие на что и похоже, то на Меморабилии Ксенофонта», – говорил он. И правда.
Из античных авторов он выписывал фразы на грамматические правила, из фраз составлял свои учебники греческого и латинского языка – один многотомный, два однотомных. Фразы выписывались безукоризненным почерком на клочках: на оборотах рукописей, изнанках конвертов, аптечных рецептах, конфетных обертках. Клочки хранились в коробках из-под печенья, из-под ботинок, из-под утюга – умятые, как стружки. Он был скуп.
«Какая сложная вещь язык, какие тонкие правила, а кто выдумал? Мужики греческие и латинские!»
Библиотеку свою, от которой мог разрушиться дом, он завещал Академии наук. У Академии она заняла три сырых подвала с тесными полками. Составлять ее каталог вчетвером, по два дня в неделю, пришлось два года. Среди полных собраний Платона ютились пачки опереточных либретто 1900 года – оказывается, был любителем. В книгах попадались листки с русскими фразами для латинского перевода. Некоторые я запомнил: Недавно в нашем городе была революция. Люди на улицах убивали друг друга оружием. Мы сидели по домам и боялись выходить, чтобы нас не убили.
«Преподавательское дело очень нелегкое, – говорил он. – Какая у тебя ни беда, а ты изволь быть спокойным и умным».
Была там и мелко исписанная тетрадка, начинавшаяся: «Аа – река в Лифляндии… Абак… Аббат…» Нам рассказывали: когда-то к нему пришел неизвестный человек и сказал: я хочу издать энциклопедию, напишите мне статьи по древности, я заплачу. – «А кто будет писать другие разделы?» – «Я еще не нашел авторов». – «Давайте я напишу вам все разделы, а вы платите». Так и договорились: Соболевский писал, пока заказчик платил, – кажется, до слова «азалия».
Когда ему исполнилось девяносто пять, университет подарил ему огромную голову Зевса Отриколийского. «И зачем? Лучше бы уж Сократа». За здоровье его чокались виноградным соком. От Академии пришел с поздравлением сам Виноградов, он жил в соседнем доме. Оказалось, кроме славянской филологии в духовной академии Виноградов слушал и античность у старого Зелинского на семинарах-privatissima и помнил, как Зелинский брызгал слезами оттого, что не мог найти слов объяснить, почему так прекрасна строка Горация. С Соболевским они говорили о том, что фамилию Суворов, вероятно, нужно произносить Су́воров, Souwaroff: «сувор» – мелкий вор, как «сукровица» – жидкая кровь.
«А Сергей Михайлович Соловьев мне так и не смог сдать экзамен по греческому языку». Это тот Соловьев, поэт, который дружил с Белым, писал образцово-античные стихотворения и умирал в мании преследования; врач говорил: «Посмотрите мне в глаза. Разве мы хотим вам дурного?» – а он отвечал: «Мне больно смотреть людям в глаза».
Работал Соболевский по ночам под той самой лампой с жестяным абажуром. В предисловии к переводу Эпикура он писал: «К сожалению, я не мог воспользоваться комментированным изданием Гассенди 1649 года. …В Москве он есть только в Ленинской библиотеке, для занятия дома оттуда книг не выдают, а заниматься переводом мне приходилось главным образом в вечерние и ночные часы, имея под рукой все мои книги… Впрочем, я утешаю себя той мыслью, что Гассенди был плохой эллинист…» и т. д.
В институте полагалось каждому составлять планы работы на пятилетку вперед. Соболевский говорил: «А я, вероятно, помру». Когда он слег и не мог больше работать, то хотел подать в отставку, чтобы не получать незаслуженную зарплату. Петровский успокаивал его: «У вас, Сергей Иванович, наработано на несколько пятилеток вперед».
Он жил неженатым. Уверяли, будто он собирался жениться, но невеста перед свадьбой сказала: «Надели бы вы, Сергей Иванович, чистую рубашку», – а он ответил: «Я, Машенька, меняю рубашки не по вторникам, а по четвергам», – и свадьба разладилась. Ухаживала за ним экономка, старенькая и чистенькая. Мы ее почти не видели. Лет за десять до смерти он на ней женился, чтобы она за свои заботы получила наследство. Когда он умер, она попросила сотрудников сектора взять на память по ручке с пером из его запасов: он любил писчие принадлежности. Мне досталась стеклянная, витая жгутом, с узким перышком. Я ее потерял. Правда, потом, после публикации этих воспоминаний, мне специально привезли такую же из Венеции.
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
Есть такая награда – Государственная премия Российской Федерации: отдельно за литературу и искусство и отдельно, кажется, за науку и технику. При Сталине она называлась Сталинской премией (и выплачивалась не из бюджета, а из гонораров за переиздания его трудов), после Сталина – Государственной премией СССР, а после СССР все запутались и уже не помнили, откуда она взялась и что значит. Получали ее идейно выдержанные писатели и артисты, иногда хорошие, иногда плохие.
Было «общество независимой интеллигенции» под названием «Мир культуры». В нем числились писатели Фазиль Искандер, Андрей Битов, композитор Шнитке, режиссер Любимов, Аверинцев, академик Лихачев, митрополит Питирим, а дела делали люди менее знаменитые и мало мне знакомые. Я думал, что оно давно развалилось, а оказалось, оно еще существовало. Когда я был в американской командировке, мне позвонила жена и сказала, что «Мир культуры» выдвинул меня на Государственную премию. Я сказал: «С ума они сошли». Выдвигать можно было работы последних лет, а у меня таких работ было всего лишь научно-популярная книжка по занимательному стихосложению и перевод с латинского стихов Авсония со статьей и комментарием; кто такой Авсоний, об этом даже среди филологов знал не всякий.
Кто присуждал премии, я не знаю. Список награжденных оказался пестрым. Там были эстрадная звезда Алла Пугачева, руководитель иконописной школы архимандрит Зинон, старый фронтовой поэт Юрий Левитанский, православный композитор Свиридов и Лидия Чуковская (за «Записки об Ахматовой» – бывшая Сталинская премия!); там же оказался и я. Позвонили по телефону, сказали жене: 7 мая будут торжественно вручать аттестаты. «Где?» – «В Георгиевском зале». – «Где это?» С презрением в голосе объяснили: в Кремле. «У вас, конечно, есть машина?» – «Нет». – «Тогда за вами заедут».
Приехала широкая рассидистая машина, в ней сопровождающая дама. При въезде в Кремль – вдали видны огромные буквы «Россия»: это на гостинице в Зарядье. При входе в зал – картина во всю стену, вроде очень пестрой гигантомахии: кони, кольчуги и луки, видимо Ледовое побоище или Куликовская битва. В зале скамьи обтянуты георгиевскими цветами, рыжим и черным, чтобы сидеть на них задом. «Вон – три микрофона, средний с орлом – президентский, когда вызовут – подойдите туда, а для ответного слова – к правому». От мысли об ответном слове («две-три фразы!») мне стало нехорошо. Постепенно набирался народ: мешковатый седой Левитанский; режиссер Покровский с носом как хобот; «вон в первом ряду кудрявые затылки: рыжий – это Пугачева, а черный – Киркоров».
Полный свет, музыка-туш, входит Ельцин с калашной улыбкой, все встают, как перед учителем. Перед орленым микрофоном он читает одобрительные слова: сперва обо всех («почтить высший смысл жизни и ее предназначение…»), потом о каждом. Поэт Владимир Соколов – съеженный, с палочкой и бабочкой – получает Пушкинскую премию и говорит ответные слова: «Пушкин с нами всегда…». За Чуковскую получает премию ее дочь и говорит за нее речь: «В своих записках я старалась создать образ Ахматовой…». Каждому – красный диплом, коробка с орлом, рукопожатие сверху вниз, цветы, поворот в фас, вспышка фото, музыка-туш, аплодисменты. Ельцин – крупный и тяжелый, лауреаты рядом кажутся маленькими (у Гоголя о Собакевиче сказано: «похож на средней величины медведя»). Запнулся на ударении: «ико́нопись? иконопи́сь?» – из публики подсказывают, но неправильно. К дамам наклоняется и целует в щечку. Кругленькая архитекторша, возвращаясь на свое место, удовлетворенно говорит: «Теперь неделю не буду умываться». Маленькая высохшая Юлия Борисова, которая играла Клеопатру, роняет медаль и падает, путаясь в длинном платье: она больна, ее недавно избили хулиганы на улице. Толстая Пугачева, лицо – как розовая маска, мини-юбка и легионерские ремни по голеням, говорит: «Эта премия – олицетворение народной любви…» – и жертвует ее пострадавшим от сахалинского землетрясения. Только Левитанский сказал неположенное: «Я был на двух войнах, и мне горько, что эту премию мне дают, когда идет третья…» Третья – это чеченская.
Заключительное слово Ельцина: «Вы должны возрождать великую духовность России…» Я записал.
Когда меня поставили к микрофону, я сказал: «Когда я начинал, моя отрасль филологии была несуществующей – идейно подозрительной. Теперь, как я понял, стиховедение получило государственное признание: я благодарен от лица всех ученых, которые им занимаются. Премию получила книга переводов из латинской поэзии. Пушкин сказал: переводчики – почтовые лошади просвещения; я чувствую себя вот такой лошадью, которой после очень большого перегона засыпали овса». Кроме пушкинского у меня на уме был другой подтекст, из Гумилева: «Мой биограф будет очень счастлив, будет улыбаться два часа, как осел, перед которым в ясли свежего насыпали овса…» – но я его не подчеркивал. Так как это была единственная шутка за всю церемонию, то ее показали в «последних известиях» по телевизору; потом меня поздравляли с фразой про овес. А когда говорили «поздравляем с премией!», я отвечал: «Со Сталинской!» – и поздравлявшие смущались.
Премии я был рад по двум причинам: во-первых, деньги всегда нужны, а во-вторых, вторым кандидатом на премию по литературоведению был Никита Струве с книгами «Мандельштам» и «Литература и православие»; если премирующие предпочли не его – значит, критерий «православие – самодержавие – народность» еще не стал определяющим для нашего начальства. Не знаю, надолго ли.
ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ БОБРОВЕ
Когда мне было двенадцать лет, я гостил летом в писательском Переделкине у моего школьного товарища. Он был сыном критика Веры Смирновой, это о нем упоминал Борис Пастернак в записях Л. Чуковской: «Это человеческий детеныш среди бегемотов». Он утонул, когда нам было по двадцать лет. Тогда, в детское лето, у Веры Васильевны была рукопись, которая называлась «Мальчик». Автором рукописи был седой человек, большой, крепкий, громкий, с палкой в размашистых руках. Он бранился на неизвестных мне людей, бросался шишками, собаку Шарика звал Трехосным Эллипсоидом, играл в шахматы, не глядя на доску, читал Тютчева так, что я до сих пор слышу «Итальянскую виллу» его голосом, и уничтожал меня за недостаточный интерес к математическим наукам. Его звали Сергей Павлович Бобров; имя это ничего нам не говорило.
Через два года вышла его книга «Волшебный двурог» – вроде «Алисы в стране математических чудес», где главы назывались схолиями, отступления были интереснее сюжета, шутки – лихие, картинки – Конашевичевы, а заглавная геометрическая фигура с полумесяцем не имела никакого отношения к действию. За непедагогическую яркость книгу тотчас разгромила твердая газета «Культура и жизнь». Следующая «занимательная математика» Боброва появилась через несколько лет и была надсадно-бледная. Но мы уже знали, что Бобров был поэтом, и читали в старых альманахах «Центрифуги» («такой-то турбогод») его малопонятные стихи и хлесткие рецензии: «Ну что же, дорогой читатель, наденем калоши и двинемся вглубь по канализационным тропам „Первого журнала русских футуристов“…»10. Видели давний силуэт работы Кругликовой – усы торчат, губы надуты, над грудой бумаг размахивается рука с папиросой, сходство – как будто тридцати лет и не бывало. Это была невозвратная история. Когда потом в оттепельной «Литературной Москве» вдруг появились два стихотворения Боброва, филологи с изумлением говорили друг другу: «А Бобров-то!..»
Когда мне было двадцать пять лет, в Институте мировой литературы начала собираться стиховедческая группа. Ее можно было назвать клубом неудачников. Все старшие участники помнили, как наука стиховедения была отменена почти на тридцать лет, а их собственные работы в лучшем случае устаревали на корню. Председательствовал Л. И. Тимофеев, приходили Бонди, Квятковский, Никонов, Стеллецкий, один раз появился Голенищев-Кутузов. У Бонди была книга о стихе, зарезанная в корректуре. Штокмар в депрессии сжег полную картотеку рифм Маяковского. Нищий Квятковский был принят в Союз писателей за считаные годы до смерти и представляемые в комиссию несколько экземпляров своего «Поэтического словаря» 1940 года собирал по одному у знакомых. Квятковский отбыл свой срок в 1930‐х на Онеге, Никонов в 1940-х – в Сибири, Голенищев в 1950-х – в Югославии: там, в тюрьме у Тито, он сочинял свою роспись словоразделов в русском стихе (все примеры – по памяти), вряд ли подумав, что это давно уже сделал Шенгели.
Бобров появился на первом же заседании. Он был похож на большую шину, из которой наполовину вышел воздух: такой же зычный, но уже замедленный. После заседания я одолел робость и подошел к нему: «Вы меня не помните, а я вас помню: я тот, который с Володей Смирновым…» – «А‐а, да, конечно, Володя Смирнов, бедный мальчик…» – и он позвал прийти к нему домой. Дал для испытания два своих непечатавшихся этюда, «Ритмолог» и «Ритор в тюльпане», и один рассказ. В рассказе при каждой главе был эпиграф из Пушкина (А. П.), всякий раз прекрасный и забытый до неузнаваемости («Летит испуганная птица, услыша близкий шум весла» – откуда это?). В «Риторе» мимоходом было сказано: «Говорят, Достоевский предсказал большевиков, – помилуйте, да был ли такой илот, который не предсказал бы большевиков?» «Илот» мне понравился.
Я стал бывать у него почти каждую неделю. Это продолжалось десять лет. Когда я потом говорил о таком сроке людям, знавшим Боброва, они посматривали на меня снизу вверх: Бобров славился скверным характером. Но ему хотелось иметь собеседника для стиховедческих разговоров, и я оказался подходящим.
Как всякий писатель, а особенно вытесненный из литературы, он нуждался в самоутверждении. Первым русским поэтом нашего века был, конечно, он сам, а вторым – Пастернак. Особенно Пастернак тех времен, когда он, Бобров, издавал его в «Центрифуге». «Как он потом испортил „Марбург!“ Только одну строфу не тронул, да и то потому, что ее процитировал Маяковский и сказал: „гениальная“». Уверял, что в молодости Пастернак был нетверд в русском языке: «Бобров, почему вы меня не поправили: „падет, главою очертя“, „а вправь пойдет Евфрат“? – а теперь критики говорят: неправильно». – «А я думал, вы нарочно». С очень большим уважением говорил об отце Пастернака: «Художники знают цену работе, крепкий был человек, Борису по струнке приходилось ходить. Однажды спросил меня: у Бориса настоящие стихи или так? Я ответил». Ответил – было, конечно, главное. Посмертно опубликованную автобиографию Пастернака «Люди и положения», где о Боброве было упомянуто мимоходом и неласково, он очень не любил и называл не иначе как «апокриф». К роману «Доктор Живаго» был равнодушен, считал его славу раздутой. Но выделял какие-то подробности предреволюционного быта, особенно душевного быта: «очень точно». Доброй памяти об этом времени у него не было. «На нас подействовал не столько 1905 год, сколько потом реакция – когда каждый день раскрываешь газету и читаешь: повешено столько-то, повешено столько-то».
Об Асееве говорилось: «Какой талант! И какой был легкомысленный: ничего ведь не осталось. Впрочем, вот теперь премию получил, кто его знает? Однажды мы от него уходили в недоумении, а Оксана выходит за нами в переднюю и тихо говорит: вы не думайте, ему теперь нельзя иначе, он ведь лауреат». Пастернак умирал гонимым, Асеев признанным, это уязвляло Боброва. Однажды, когда он очень долго жаловался на свою судьбу со словами «А вот Асеев…», я спросил: «А вы захотели бы поменяться жизнью с Асеевым?» Он посмотрел так, как будто никогда об этом не задумывался, и сказал: «А ведь нет».
«Какой был слух у Асеева! Он был игрок, а у игроков свои суеверия: когда идешь играть, нельзя думать ни о чем божественном, иначе – проигрыш. Приходит проигравшийся Асеев, сердитый, говорит: „Шел – все церкви за версту обходил, а на Смоленской площади вдруг – извозчичья биржа и огромная вывеска ‘Продажа овса и сена’, не прочесть нельзя, а это ведь все равно, что ‘Отца и Сына!’“ А работать не любил, разбрасывался. Всю „Оксану“ я за него составил. У него была – для заработка – древнерусская повесть для детей в „Проталинке“, я повынимал оттуда вставные стихи, и кто теперь помнит, откуда они? „Под копыта казака – грянь! брань! гинь! вран!“»
Читал стихи Бобров хорошо, громко подчеркивая не мелодию, а ритм, – стиховедческое чтение. Я просил его показать, как «пел» Северянин, – он отказался. А как вбивал в слушателей свои стихи Брюсов, показал – «Демон самоубийства», то чтение, о котором говорится в автобиографическом «Мальчике»: «Своей – улыбкой, – странно – длительной, – глубокой – тенью – черных – глаз – он часто, – юноша – пленительный, – обворожает – скорбных – нас…» («А интонация Белого записана: Метнер написал один романс на его стихи, где нарочно воспроизвел все движения его голоса, какой, не помню». Я стал расспрашивать о Белом – он дал мне главу из «Мальчика» с ночным разговором, очень хорошую, но ничего не добавил.)
«Брюсов не только сам все знал напоказ, но и домашних держал так же. Мы сидим у него, говорим о стихах, а он: „Жанночка, принеси нам тот том Верлена, где аллитерация на л!“ – и Жанна Матвеевна приносит том, раскрытый на нужной странице». Кажется, об этом вспоминали и другие: видимо, у Брюсова это был дежурный прием. «Мы его спрашивали: Валерий Яковлевич, как же это вы не отстояли „Петербург“ Белого для „Русской мысли“? Он разводит руками: „Прихожу я спорить к Струве, он выносит рукопись: „А вы видели, что тут целая страница – о том, как блестит паркетина в полу? По-вашему, можно это печатать?“ Смотрю – и верно, целая страница. Как тут поспоришь?» «Умирал – затравленный. Эпиграмму Бори Лапина знаете: „И вот уж воет лира над тростью этих лет“? Тогда всем так казалось. Когда он умер, Жанна Матвеевна бросилась к профессору Кончаловскому (брат художника, врач): „Доктор, ну как же это?“ А он буркнул: „Не хотел бы – не помер бы“».
«А Северянина мы всерьез не принимали. Его сделал Федор Сологуб. Есть ведь такое эстетство – наслаждаться плохими стихами. Сологуб взял все эти его брошюрки, их было под тридцать, и прочитал от первой до последней. Отобрал из них что получше, добавил последние его стихи – и получился „Громокипящий кубок“. А в следующие свои сборники Северянин стал брать все, что Сологуб забраковал, и понятно, что они получались один другого хуже. Однажды он вернулся из Ялты, протратившись в пух и прах. Там жил царь, – так вот, когда Северянин ездил в такси, ему устраивали овации громче, чем царю. Понятно, что Северянин только и делал, что ездил в такси. А народ тоже понимал что к чему: к царю относились – известно как, вот и усердствовали для Северянина».
Одно неизданное асеевское стихотворение я запомнил в бобровском чтении с первого раза. «Сидел Асеев у меня вечером, чай пили, о стихах разговаривали. Ушел – забыл у меня пальто. Наутро пришел, нянька ему открыла, он берет пальто и видит, что на окне стоит непочатая бутылка водки. Он ужасно обижен, что вчера эта бутылка не была употреблена по назначению, и пишет мне записку. Прихожу – читаю (двенадцать строчек – одна фраза): „У его могущества, / кавалера Этны, / мнил поять имущество, / ожидая тщетно, – / но, как на покойника, / с горнего удела / (сиречь, с подоконника) / на меня глядела – / та, завидев коюю / (о, друзья, спасайтесь!), / ввергнут в меланхолию / Юргис Балтрушайтис“». Следовало пояснение об уединенных запоях Балтрушайтиса. «Почему „кавалера Этны“?» – «Это наши тогдашние игры в Гофмана». – «И „Песенка таракана Пимрома“ – тоже?» – «Тоже». Но точнее ничего не сказал.