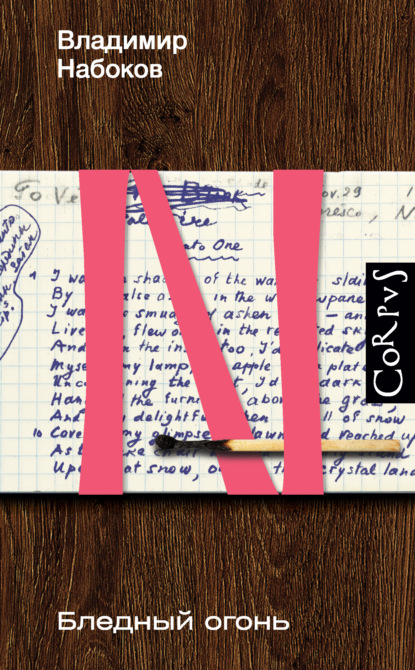Полная версия
Полное собрание рассказов
– Шли бы вы гулять, Пал Палыч. Охота вам киснуть в душной комнате.
Он махнул рукой:
– Чего я там не видал. П-печет только…
Вытер ладонью опухшие глаза, усы – сверху вниз.
– Вот вечером, может быть, пойду удить рыбу. – Дрогнул родимый прыщик на морщинистом веке.
Надо было спросить его: «Голубчик, Пал Палыч, отчего это вы только что лежали, уткнувшись в подушку? Что это, сенная лихорадка или большая печаль? Любили ли вы когда‐нибудь женщину? И отчего вам плакать сегодня, когда на улице солнце, лужи?..»
– Ну‐с, пора мне бежать, Пал Палыч, – сказал я, оглянув неубранные стаканы, типографского Толстого, сапоги с ушками под стулом.
Две мухи сели на красный пол. Одна влезла на другую. Зажужжали. Разлетелись.
– Эх вы… – медленно выдохнул Пал Палыч. Покачал головой. – Ну уж так и быть, ступайте.
Снова бежал я по тропинке, вдоль ольховых кустов. Я чувствовал, что омылся в чужой грусти, сияю чужими слезами. Это было счастливое чувство, и с тех пор изредка испытываю я его при виде склоненного дерева, прорванной перчатки, лошадиных глаз. Оно было потому счастливое, что лилось гармонично. Оно было счастливое, как всякое движенье, излученье. Был я когда‐то раздроблен на миллионы существ и предметов, теперь я собран в одно, завтра раздроблюсь опять. И все в мире переливается так. В тот день я был на вершине волны, знал, что все вокруг меня – ноты одной гармонии, знал – втайне, – как возникли, как должны разрешиться собранные на миг звуки, какой новый аккорд вызовет каждая из разлетавшихся нот. В гармонии не может быть случайности. Музыкальный слух души моей все знал, все понимал.
Ты встретила меня на садовой площадке у ступеней веранды, и первые твои слова были:
– Муж звонил из города, пока меня не было. Приезжает с десятичасовым. Что‐то случилось. Переводят, что ли.
Трясогузка – сизый ветер – просеменила по песку: стоп, два-три шажка, стоп и опять шажки. Трясогузка, мундштук в моей руке, твои слова, пятна солнца на платье. Иначе быть не могло.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказала ты, сдвинув брови. – О том, что ему донесут и все такое. Но это все равно… Знаешь, что я…
Я посмотрел тебе прямо в лицо. Всей душой, плашмя посмотрел. Ударился в тебя. Глаза твои были ясны, словно слетел с них лист шелковистой бумаги, какой быва<ю>т подернуты рисунки в дорогих книгах. И голос твой был ясен – в первый раз.
– Знаешь, что я решила? Вот. Не могу жить без тебя. Так ему и скажу. Развод он мне даст сразу. И тогда мы можем, скажем, осенью…
Я перебил тебя своим молчанием. Пятно солнца скользнуло с юбки твоей на песок: это ты слегка отодвинулась.
Что мог я сказать тебе? Свобода? Плен? Мало люблю? Не то.
Прошло одно мгновение; за этот миг на свете случилось многое: где‐нибудь гигантский пароход пошел ко дну, войну объявили, родился гений. Это мгновенье прошло.
– Вот твой мундштук, – проговорил я, кашлянув. – Он был под креслом. И знаешь, когда я вошел, Пал Палыч, по‐видимому…
Ты сказала:
– Так. Теперь можешь уходить.
Повернулась и быстро убежала по ступеням. Схватилась за ручку стеклянной двери, дернула, не сразу могла открыть. Это было, вероятно, мучительно.
Блеснуло. Захлопнулась.
Постоял я в саду, в сладковатой сырости, затем, глубоко засунув руки в карманы, обошел кругом дома, по пятнистому песку. У парадного крыльца нашел свой велосипед. Уперся в низкие рулевые рога, покатил по аллее парка.
Там и сям лежали жабы. Нечаянно я одну переехал. Хлопнуло под шиной.
В конце аллеи была скамейка. Я приставил велосипед к стволу. Сел на беленую доску. Думал о том, что, вероятно, на днях получу от тебя письмо: будешь звать, а я не вернусь. В чудесную и печальную даль уплыл твой дом с его крылатым роялем, пыльными томами «Живописного обозрения», силуэтами в круглых рамочках. Сладко мне было терять тебя. Ты ушла, угловато дернув стеклянную дверь. Но другая ты уходила иначе – распахнув бледные глаза под моими счастливыми поцелуями. Ничего нет слаще уходящей музыки.
Так просидел я до вечера. Словно на незримых ниточках, вверх и вниз дрыгали мошки. Вдруг где‐то сбоку почувствовал я светлое пятно: твое платье… ты…
Все ведь дозвенело – оттого стало мне неприятно, что ты опять тут – где‐то сбоку, вне поля моего зрения, идешь, приближаешься. С усилием я повернул лицо. Это была не ты, а та барышня в зеленоватом платке – помнишь, встретили?.. Еще у фокса было такое смешное брюшко… Она прошла в просветах листвы, по мостику, ведущему к маленькой беседке с цветными стеклами. Барышне скучно, она разгуливает у тебя в парке, я, вероятно, с ней познакомлюсь как‐нибудь.
Медленно встал я, медленно выехал из неподвижного парка на большую дорогу, прямо в огромный закат. За поворотом перегнал коляску: это твой кучер Семен шагом ехал на станцию. Увидя меня, он медленно снял картуз и, пригладив по темени лоснящиеся пряди, надел опять. На сиденье был сложен клетчатый плед. Закатный блеск скользнул в глазу у вороного мерина. А когда, остановив педали, пролетел я под гору к реке, то увидел с моста панаму и круглые плечи Пал Палыча, сидящего внизу, на выступе купальни с удочкой в кулаке.
Затормозил я, остановился, положив ладонь на перила.
– Гоп-гоп, Пал Палыч! Клюет?
Он взглянул вверх, хорошо так помахал рукой. Над розовым зеркалом метнулась летучая мышь. Черным кружевом отражалась листва. Издали Пал Палыч кричал что‐то, манил рукой. Другой Пал Палыч черной зыбью дрожал в воде. Я рассмеялся и оттолкнулся от перил. Беззвучным махом пронесся я по укатанной тропе мимо изб. В матовом воздухе проплывало мычанье; взлетая, дзенькали рюхи. А дальше, на шоссе, в просторе заката, в полях, смутно дымящихся, было тихо.
Боги
Вот что я сейчас вижу в твоих глазах: дождливая ночь; узкая уличка; уплывающие вдаль фонари. Вода течет с крутых крыш по трубам. Под змеиной пастью каждой трубы – бадья, схваченная зеленым обручем. Бадьи тянутся рядами по обеим сторонам вдоль черных стен. Я смотрю, как наполняются они холодной ртутью. Дождевая ртуть, вздувшись, переливается через край. Вдали плывут простоволосые фонари. Их лучи стоят дыбом в дождевой мути. Вода переполняет бадьи.
Так вхожу я в твои ненасытные глаза, в проулок черного блеска, где журчит и шуршит ночной дождь. Улыбнись. Зачем ты смотришь на меня так скорбно и темно? Утро. Всю ночь звезды кричали младенческими голосами и кто‐то на крыше рвал и гладил скрипку острым смычком. Смотри, солнце огненным парусом медленно прошло по стене. Ты вся задымилась. В твоих глазах закружилась пыль: миллионы золотых миров. Улыбнулась! Мы выходим на балкон. Внизу, посередине улицы, желтокудрый мальчик быстро-быстро рисует бога. Бог протянулся от панели до панели. Мальчик зажал в руке кусок мела, белый уголек, и скорчился, колесит, размашисто чертит. У белого бога – широкие большие пуговицы, вывернутые ноги. Он распят на асфальте и круглыми очами смотрит в небо. Рот у него – белая дуга. Сигара, величиной с полено, появилась во рту. Мальчик винтовыми ударами чертит спиралями дым. Подбоченился, смотрит. Прибавил еще одну пуговицу… Напротив лязгнула оконная рама; женский голос, громадный и счастливый, прокатился, позвал. Мальчик пинком поддал мяч, кинулся в дом. На лиловатом асфальте остался белый геометрический бог, глядящий в небо.
Снова тьмой наполнились твои глаза. Я понимаю, конечно, о чем ты вспомнила. В углу нашей спальни, под образом – цветной резиновый мяч. Иногда легким и грустным прыжком он спадает со столика на пол, тихо катится. Положи его на место, под образ, и, знаешь, пойдем гулять.
Весенний воздух. Чуть пушистый. Видишь эти липы вдоль улицы? Черные ветки в мокрых зеленых блестках. Все деревья на свете движутся куда‐то. Вечное паломничество. Помнишь ли, когда ехали мы сюда, в этот город, мимо вагонных окон шли деревья? Помнишь двенадцать тополей, что совещались между собой, как им перейти реку? А еще раньше, в Крыму, я видел кипарис, склоненный над цветущим миндалем. Кипарис был некогда рослым трубочистом со щеткой на проволоке, с лесенкой под мышкой. Был он, бедный, без ума от маленькой прачки, розовой, как миндальные лепестки. И только вот теперь они встретились наконец и вместе идут куда‐то. Розовый передник ее вздувается, он робко наклоняется к ней, еще как будто боясь испачкать ее сажей. Это очень хорошая сказка.
Все деревья паломники. У них есть свой Мессия, которого ищут они. Их Мессия – царственный ливанский кедр, а может быть, просто – совсем маленький, совсем незаметный кустик какой‐нибудь на [sic!] тундре… Сегодня через город проходят липы. Их захотели удержать. Обнесли стволы круглыми решетками. Но они все равно движутся…
Горят крыши, как косые зеркала, ослепленные солнцем. Крылатая женщина моет стекла, стоя на подоконнике. Изогнулась, надула губы, смахивая с лица прядь горящих волос. В воздухе тонко пахнет бензином и липой. Кто знает теперь, какой именно запах легонько обдавал гостя, входящего в помпейский атриум? Через полвека люди знать не будут, чем пахло на наших улицах и в комнатах наших. Откопают каменного полководца, каких сотни в каждом городе, и вздохнут о былом Фидиасе. Все в мире прекрасно, но человек только тогда признает прекрасное, когда видит его либо редко, либо издалека…
Слушай, мы сегодня – боги! Наши синие тени громадны. Мы двигаемся в исполинском и радостном мире. Высокая тумба на углу крепко обтянута мокрыми еще полотнами: по ним кисть разметала цветные вихри.
У старухи-газетчицы седые загнутые волосы на подбородке и сумасшедшие голубые глаза. Газеты буйно торчат из мешка. Их крупный шрифт напоминает мне летящих зебр.
У столба стал автобус. Наверху кондуктор бабахнул ладонью по железному борту. Рулевой мощно повернул огромное свое колесо. Восходящий трудный стон, короткий скрежет. На асфальте остались серебряные отпечатки широких шин.
Сегодня, в этот солнечный день, все возможно. Смотри, человек прыгнул с крыши на проволоку, и вот идет по ней, заливается смехом, распахнув руки, – высоко над качающейся улицей. Вот два дома плавно сыграли в чехарду: номер третий оказался между первым и вторым; он не сразу осел – я заметил просвет под ним, солнечную полоску. Вот посреди площади встала женщина, запрокинула голову и запела; вокруг нее столпились, подались назад: пустое платье лежит на асфальте, а в небе прозрачное облачко.
Ты смеешься. Когда ты смеешься, мне хочется весь мир превратить в твое зеркало. Но мгновенно глаза твои гаснут. Говоришь страстно и испуганно:
– Хочешь, поедем… туда? Хочешь? Там сегодня хорошо… цветет все…
Конечно, все цветет, конечно, поедем. Ведь мы с тобой боги… Я ощущаю в крови своей круженье неисследимых вселенных…
Слушай, я хочу всю жизнь бежать и кричать что есть сил. Пускай вся жизнь будет вольным воплем. Вот как кричит толпа, когда встречает гладиатора. Не задумывайся, не прерывай крик, выдыхай, выдыхай восторг жизни. Все цветет. Все летит. Все кричит, захлебываясь криком. Смех. Бег. Распущенные волосы. Вот – вся жизнь.
По улице ведут верблюдов – из цирка в зоологический сад. Жирные горбы их склонились набок, покачиваются. Длинные добрые морды слегка подняты мечтательно. Какая может быть смерть, если по весенней улице ведут верблюдов? На углу пахнуло русской рощей: нищий, божественный урод, весь вывернутый, с ногами, растущими из‐под мышек, протягивает в мокрой мохнатой лапе пучок зеленоватых ланд… Я плечом влетаю в прохожего: на миг сшиблись два гиганта. Он весело и великолепно замахнулся на меня лаковой тростью. Откинутым концом разбил за собой витрину. Распрыгались извилины по блестящему стеклу. Нет, это просто солнце из зеркала брызнуло мне в глаза. Бабочка, бабочка! Черная с пунцовыми полосками… Клочок бархата… Скользнула над асфальтом, взмыла через пролетающий автомобиль, через высокий дом – в мокрую лазурь апрельского неба. Точь-в‐точь такая же села когда‐то на белый край арены; Лезбия, дочь сенатора, худенькая, темноглазая, с золотой лентой на лбу, залюбовалась дышащими крыльями – и пропустила тот миг, когда в вихре ослепительной пыли хрустнул бычий затылок одного бойца под голым коленом другого.
У меня в душе сегодня – гладиаторы, солнце, гул мира…
Мы спускались по широким ступеням в длинное тусклое подземелье. Туго звенят под шагами каменные плиты. Изображеньями горящих грешников расписаны старые стены. В глубине черными складками нарастает бархатный гром. Вырывается кругом нас. Люди метнулись, как бы в ожидании бога. Нас вдавливают в стеклянный блеск. Раскачнулись. Влетаем в черный провал и гулко несемся глубоко под землей, повисая на кожаных ремнях. На миг, щелкнув, гаснут янтарные лампочки: тогда в темноте жарко горят рыхлые пузыри огня – выпученные глазища бесов, а может быть, сигары наших попутчиков. Снова светло. Видишь, вон там, у стеклянной двери вагона, стоит высокий господин в черном пальто. Я смутно узнаю это лицо, узкое, желтоватое, – костяную горбинку носа. Тонкие губы сжаты, внимательная складка между тяжелых бровей: он слушает, что объясняет ему другой, бледный, как гипсовая маска, с круглой лепной бородкой. Я уверен – они говорят терцинами. А вот соседка твоя – эта дама в палевом платье, что сидит, опустив ресницы, уж не Беатриче ли она?
Из сырой преисподни снова выходим на солнце.
Кладбище далеко за городом. Дома поредели. Зеленоватые пустоты. Я вспоминаю вид этой же столицы на старинном эстампе.
Мы идем против ветра, вдоль величавых заборов. В такой же солнечный и зыбкий день мы вернемся с тобой на север, в Россию. Будет очень мало цветов – только желтые звездочки одуванчиков вдоль канав. Будут гудеть нам навстречу сизые телеграфные столбы. Когда за поворотом ударят в сердце елки, красный песок и угол дома, я покачнусь и паду ничком.
Смотри! Над зеленоватыми пустотами высоко в небе плывет аэроплан, басисто звеня, как Эолова арфа. Сияют стеклянные крылья. Правда, хорошо? Ах, слушай: это случилось в Париже, лет полтораста тому назад. Рано утром – дело было осенью, и деревья мягкими оранжевыми грудами плыли вдоль бульваров в нежное небо, – рано утром на рыночную площадь съехались торговцы, заблистали мокрые яблоки на лотках, пахнуло медом, сырой соломой. Старик, с белым пухом в ушных раковинах, не торопясь расставил клетки свои, в которых зябко ерзала всякая птица, и затем сонно прилег на рогожку, так как заревой туман еще скрывал золотые стрелки на черном циферблате ратуши. Только что уснул он, как кто‐то стал теребить его за плечо. Вскочил старик и увидел перед собой запыхавшегося молодого человека. Был он долговязый, тощий, с маленькой головой и острым носиком. Жилет – серебристый в черную полоску – был криво застегнут, ленточка на косице развязалась, на одной ноге белый чулок сполз складками.
– Мне нужно какую‐нибудь птицу, курицу, что ли, – сказал молодой человек, скользнув по клеткам быстрым взволнованным взглядом.
Старик бережно вытащил белую курочку, пухло бьющуюся в его темных руках.
– Что она, не больна? – спросил молодой человек, словно речь шла о корове.
– Больна? Брюшко маленькой рыбки! – добродушно выругался старик.
Молодой человек кинул яркую монету и побежал между лотков, прижав на груди курочку. Остановился, круто повернул, хлестнув косицей, и снова подбежал к старику.
– Мне нужно и клетку, – сказал он.
Когда он наконец удалился, держа клетку с курочкой в протянутой руке и раскачивая другой, словно нес ведро, старик хмыркнул носом и снова прилег на рогожку. Как он торговал в этот день и что с ним случилось потом, совершенно для нас не важно.
А молодой человек был не кто иной, как сын знаменитого физика Шарля. Шарль посмотрел через очки на курочку, щелкнул желтым ногтем по клетке и сказал:
– Ну что ж, теперь и пассажир есть.
И прибавил, строго сверкнув стеклами на сына:
– А мы с тобой, друг мой, повременим. Бог весть, какой там воздух, в облаках‐то.
В тот же день, в назначенный час, на Марсовом поле, при дивящейся толпе, громадный, легкий купол, вытканный богдыханскими узорами, с золоченой гондолой на шелковых шнурах, медленно вздувался, наливаясь водородным газом. В струях дыма, уносимого вбок ветром, возились Шарль и сын его. Курочка сквозь решетку клетки смотрела одним бисерным глазком, наклонив голову. Кругом двигались кафтаны цветные, в искру, воздушные платья женщин, соломенные шляпы, и, когда шар шарахнулся ввысь, старый физик посмотрел ему вслед, заплакал на плече у сына, и сотни рук кругом замахали платками, лентами… По нежному солнечному небу летели рассыпчатые облака, Земля уходила – зыбкая, зеленоватая, в бегущих тенях, в огненных пятнах деревьев. Далеко внизу пронеслись игрушечные всадники, но шар скоро исчез из виду. Курочка все смотрела одним глазком.
Летела она весь день. День окончился широким ярким закатом. Ночью шар стал медленно опускаться.
А в одной деревушке на берегу Луары жил-был добрый хитроглазый крестьянин. Вот на заре вышел он в поле. Посреди поля увидел он диво: громадный ворох пестрых шелков. Рядышком лежала опрокинутая клетка. Курочка, белая, словно вылепленная из снегу, просунув голову сквозь решетки и отрывисто поводя клювом, искала в траве букашек. Крестьянин испугался было, но скоро смекнул, что Богородица, чьи волосы осенними паутинами плыли по воздуху, просто шлет ему подарок. Шелк жена его распродала по кускам в ближнем городе, маленькая золоченая гондола обратилась в люльку для туго спеленатого первенца, а курочку отправили на задний двор.
Слушай дальше.
Протекло некоторое время, и вот однажды крестьянин, проходя мимо холмика половы в воротах амбара, услышал счастливое кудахтанье. Он нагнулся – из зеленой пыли выскочила курочка и юркнула на солнце, быстро и не без гордости переваливаясь с лапки на лапку. А в полове жарко и гладко горели четыре золотых яйца.
Да иначе и быть не могло. Курочка по воле ветра пролетела через сплошное зарево заката, и солнце, огненный петух с багряным гребнем, потрепыхало над ней. Не знаю, понял ли это крестьянин. Долго стоял он неподвижно, мигая и щурясь от блеска и бережа в ладонях еще теплые, цельные золотые яйца. Затем, гремя деревянными башмаками, кинулся он через двор – с таким воплем, что батрак его подумал: «Ишь, топором палец себе оттяпал…»
Впрочем, все это случилось очень давно, за много лет до того, как летчик Латам, упав посреди Ла-Манша, сидел, понимаешь ли ты, на стрекозином хвосте своей погружающейся «Антуане<т>ты» и курил на ветру пожелтевшую папиросу, глядя, как там, высоко в небе, соперник его Блерио на маленькой тупокрылой машине летит – в первый раз – из Кале к сахарным берегам Англии.
Но я не могу побороть твою тоску. Почему глаза твои опять наполнились темнотой? Нет, не говори ничего. Я все знаю. Не надо плакать. Он ведь слышит, он несомненно слышит мою сказку. Я рассказываю для него. Словам нет преград. Пойми же! Ты смотришь на меня так скорбно и темно. Вспоминаю ночь после похорон. Ты не могла сидеть дома. Мы вышли с тобой в лаковую слякоть. Заблудились. Попали на какую‐то странную узкую улицу. Названье я прочел, но было оно на стекле фонаря, перевернутое, как в зеркале. Фонари уплывали в глубину. Вода стекалась с крыш. Холодной ртутью наполнились бадьи, что рядами шли по обеим сторонам, вдоль черных стен. Наполнялись, переливались. И вдруг, растерянно разведя руками, ты проговорила: «Он ведь был такой маленький, такой теплый…»
Прости, что я не умею плакать, просто, по‐человечески, а все пою, бегу куда‐то, цепляясь за все крылья, пролетающие мимо меня, высокий, растрепанный, с волной загара на лбу. Прости. Так надо.
Мы тихо идем вдоль заборов. Кладбище уже близко. Вот оно: островок весенней белизны и зелени среди пыльного пустыря. Теперь иди одна. Я подожду тебя здесь. Глаза твои улыбнулись быстро и стыдливо. Ты ведь хорошо знаешь меня…
Калитка скрипнула и захлопнулась. Я сижу один на жиденькой траве. Поодаль – огород: лиловая капуста. За пустырем – фабричные корпуса, легкие кирпичные громады, плавающие в голубой мути. У ног моих, в песчаной воронке, ржаво блестит продавленная жестянка. Кругом тихо и по‐весеннему пусто. Смерти нет. Ветер, как мягкая кукла, наваливается сзади на меня, пуховой лапой щекочет мне шею. Смерти не может быть.
Мое сердце тоже пролетело сквозь зарю. У нас с тобой будет новый золотой сын. Он создан будет из твоих слез и сказок моих. Сегодня понял я, как прекрасны скрещенные в небе проволоки, и туманная мозаика фабричных труб, и вот эта ржавая жестянка с вывернутой полуоторванной зубчатой крышкой. Тусклая травка бежит, бежит куда‐то по пыльным волнам пустыря. Я поднимаю руки. По коже скользит солнце. Кожа вся в разноцветных искорках.
И вот хочется мне встать, распахнуть объятья, обратиться с широкой и светлой речью к невидимым толпам. Начать так: «Радужные боги…»
Говорят по-русски
Табачная лавка Мартын Мартыныча помещается в угловом доме. Недаром табачные лавки питают пристрастие к углам: Мартын Мартыныч торгует бойко. Витрина невелика, но хорошо устроена. Небольшие зеркала оживляют выставку. Внизу, в ухабах голубого бархата, пестреют коробки папирос с названиями на том лощеном международном наречии, которое служит и для названий гостиниц; а повыше в своих легких ящиках скалятся ряды сигар.
В свое время Мартын Мартыныч был благополучный помещик: он знаменит в моих детских воспоминаниях диковинным трактором. А с его сыном Петей мы вместе болели Майн Ридом и скарлатиной, так что теперь, спустя пятнадцать всякой всячиной набитых лет, мне приятно было заходить в табачную лавку на бойком углу, где торговал Мартын Мартыныч.
Впрочем, начиная с прошлого года не одни только воспоминания связывают нас. Есть у Мартын Мартыныча тайна, и в эту тайну я посвящен. «Ну что, все по‐прежнему?» – шепотом спрашиваю я, и он так же тихо, с оглядкой отвечает: «Да, слава Богу, все спокойно». Эта тайна совершенно неслыханная. А началось‐то с такого пустяка!..
Помню, я уезжал в Париж, и накануне отъезда просидел до вечера у Мартын Мартыныча. Душу человека можно сравнить с универсальным магазином, у которого две витрины – глаза. Судя по глазам Мартын Мартыныча, в моде были теплые, коричневые оттенки; судя по его глазам, товары в его душе были прекрасного качества. А какая густая бородища, так и блистающая русской крепкой сединой… А плечи, рост, повадка… Некогда шла про него молва, что будто он шашкой разрубает на воздухе платок: подвиг Львиного Сердца! Теперь свой брат, эмигрант, говаривал с завистью: «Не сдал человек!»
Жена его была пухлая, ласковая старуха с бородавкой у левой ноздри. Со времен революционных мытарств у нее на лице жил трогательный тик: она быстро косилась на небо. Петя был того же здоровенного склада, как и отец. Мне нравилась его мягкая сумрачность и неожиданный юмор. У него было большое рыхлое лицо, о котором отец говорил: «Экая морда, в три дня не обойдешь», и рыжевато-русые, всегда взлохмаченные волосы. Пете принадлежал в нелюдной части города крохотный кинематограф, дававший очень скромный доход. Вот и вся семья.
Тот день накануне отъезда, который я провел, сидя у прилавка и глядя, как Мартын Мартыныч принимает покупателей: слегка, двумя пальцами, обопрется о прилавок, потом шагнет к полке, выплеснет коробку и спросит, ногтем большого пальца вскрывая ее: «Айне раухен?»[27], – тот день мне запомнился вот почему: вдруг с улицы вошел Петя, лохматый и темный от бешенства. Племянница Мартын Мартыныча собралась вернуться к матери в Москву, и Петя только что ходил в представительство. Пока один представитель давал ему справку, другой, явно имевший отношение к политическому управлению государством, едва слышно прошептал: «…шляется всякая белогвардейская шваль…»
«Я бы мог из него сделать кашу, – сказал Петя, хлопнув кулаком о ладонь, – но, к сожалению, вспомнил тетю в Москве».
«Кое-какие грешки у тебя на душе уже имеются», – мягко громыхнул Мартын Мартыныч. Он намекал на чрезвычайно забавный случай. Не так давно, в день своего ангела, Петя отправился в советский книжный магазин, который портит своим присутствием одну из прелестнейших берлинских улиц. Там продаются не только книги, но и всякие кустарные вещицы. Петя выбрал молоток, разрисованный маками и украшенный соответственной для большевицкого молотка надписью. Приказчик осведомился, не угодно ли ему еще чего купить? Петя сказал: «Да, угодно» – и кивнул по направлению небольшого гипсового бюста господина Ульянова. За бюст и за молоток он заплатил пятнадцать марок и затем, ни слова не говоря, тут же на прилавке кокнул этим молотком по этому бюсту, да так, что господин Ульянов рассыпался.
Я любил этот рассказ, как любишь, например, милые прибаутки незабвенного детства, от которых делается тепло на душе. При словах Мартын Мартыныча я со смехом поглядел на Петю. Но Петя угрюмо двинул плечами и насупился. Мартын Мартыныч, порывшись в ящике, поднес ему самую дорогую папиросу в лавке. Однако Петя и тут не прояснился.