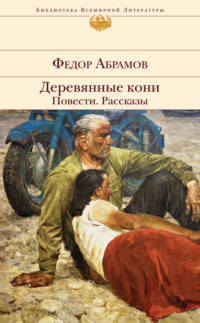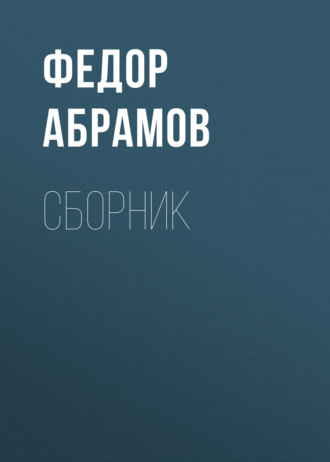
Полная версия
Ф. А. Абрамов. Сборник
Анфиса, провожая, смотрела на свое воинство и со страхом думала: «Какое же тут сено? Чем скотину кормить будем?»
Глава двадцать первая
Горбатый мыс – самое распроклятое место на Синельге. Не пожня, а сплошные горбыли да муравейники. За день так руки надергает, что вечером ложку ко рту не несут. А уж трава на Горбатом мысу! Гнездоватый мятлик, красноголовая осота – старучина да задубевшая собачья дудка… Коса вызванивает, как о проволоку.
Пять пекашинских домохозяек, проклиная все на свете, маялись на мысу уже второй день. День был жаркий, безветренный. С безоблачной выси нещадно палило солнце. От перегретой травы обдавало, как из печи. Женщины каждый раз, дойдя до Синельги, жадно припадали к воде потрескавшимися губами, споласкивали лицо, мочили засекшиеся, заземлившиеся косы и снова делали заход.
Работали молча, невесело.
Анна шла сзади – вся мокрая, еле держась на ногах. Коса у нее постоянно запарывалась, и она насилу выдирала ее из земли. Молодая, бойкая Лукерья уже трижды обходила ее. Сначала покрикивала: «Убирай пятки!..» – а потом уже просто, не говоря ни слова, выходила вперед. Да что Лукерья! Престарелая Матрена, которая вечно стонала да охала, и та обошла. Ей стыдно и горько было за себя, за свою беспомощность. Что подумают о ней бабы? Как ребят таскать, так первая, а косить – нету… Она низко наклоняла голову, украдкой смахивала слезы, а они все набегали и набегали…
После полудня Лукерья, переглядываясь с женками, сказала:
– Чтой-то, бабы, лягу-то[19] мы забыли. Иди-ко, Анна, выручай.
Ей ли было не знать, что лягу-низинку у залесья – каждый год оставляли напоследок, – для опохмелки, как говорили, чтобы после Горбатого мыса не отбить навсегда охоту к косьбе. Трава там легкая, коская – лопушник да ремза. Но сейчас Анна рада была уйти с людских глаз.
В ляге, отгороженной от мыса кустарником, жара была меньше. Анна потихоньку стала косить. Коса больше не зарывалась в землю. Она без отдыха прошла укос и, оглядываясь назад, с облегчением вздохнула: нет, еще может работать.
Когда спустя некоторое время женки закричали «перекур», она решила отдыхать здесь, в ляге. Да и зачем она пойдет? Бабы, как всегда, начнут говорить о своих мужьях, пересказывать их письма, гадать, когда кончится война и вернутся домой родные. А каково-то ей все это слушать? Ей не от кого больше получать писем, ей некого больше ждать. Был Иван, и нет Ивана – будто и не жил человек на свете.
Выбрав местечко под ветвистой черемухой, куда не доставало солнце, она села в густую влажную траву, в изнеможении прислонилась к стволу дерева.
Едкий соленый пот заливал ей лицо, голову разламывало от зноя, от слез. Надо бы спуститься к речке, умыться, но у нее не было сил. Она сняла с головы плат, вытерла лицо.
Что же это она? Совсем сдавать стала. А ведь ей всего тридцать пятый год. Иная баба к этим годам только в силу входит, а она…
Расправляя на коленях помятый плат, она случайно обратила внимание на свои руки. Какие они худые, черные да жиловатые – как у старухи. И эти ухваты Ваня называл лапушками…
Вокруг нее в траве лихорадочно ковали свое немудреное счастье кузнечики, жалобно звенели комары, загнанные в тень палящим солнцем, высоко в небе заливался жаворонок, которого в Пекашине называют божьим барашком, за кустарником громко переговаривались бабы. Но она ничего не слышала. Перед глазами ее стоял Ваня, высокий, в белой рубашке, с непокрытой головой… Свистит коса… улицей стелется пахучая трава… «Анютка, – кричит он ей улыбаясь, – не надрывайся! Давай лучше песню, а я под твою песню за семерых накошу…»
– Ванюшенька, родимый, – зашептала она вслух, глотая слезы. – Научи ты меня, как мне жить…
Первые дни после получения похоронной она ходила как помешанная, ни о чем не думая, ничего не соображая. Осознание всего ужаса и непоправимости случившейся беды пришло позднее. Как-то ночью она проснулась, села на постели и обмерла. Вокруг нее, как щенята, раскидались, переплелись меж собой посапывающие детишки. Пятеро! Да еще шестой на кровати. Как же она, горемычная, будет жить, поднимать такую ораву? Разве тащить ей воз, который был под силу одному Ивану? Чем их накормить, напоить?
С тех пор эта мысль неотступно преследовала ее. Сядет за стол, взглянет на ребятишек – и сердце упадет. Шестеро! И все тянутся к хлебу, наминают за обе щеки. По куску, так шесть кусков надо! А какие у нее доходы? Ну пускай поднатужится, выработает триста трудодней в год, получит по килограмму. Это хорошо еще – урожайный год. А ведь были годы, когда и сотками получали. Да разве это хлеб на такую семью? Она уже сейчас забирает под новые трудодни. А во что обуть, одеть их?..
За кустами зазвенели косы. Она, охая, поднялась, налопатила косу и поплелась к кошенице. Мало-помалу жара начала спадать, с северной стороны потянуло желанным ветерком. Коса заходила живее.
Через некоторое время впереди, в Волчьем логу, застрекотала сенокосилка. Анна, не прекращая размахивать косой, приподняла голову. Радостная улыбка осветила ее лицо.
По лугу, потряхивая головами, шагали две лошади, а сзади них, сбоку, покачивался на сиденье косильщик в белой рубахе. Мишка! Ее Мишка… Господи, как бы она жила без него! И чего-чего не делает он в свои четырнадцать лет! Днем за мужика работает, а дома – и воды, и дров принесет. Вчера утром стала одеваться, смотрит – на сапогах подметки подбиты. То-то она ночью просыпалась: что да что стучит на крыльце.
– Милый ты мой! Радость ты моя… – прошептала она тихо, не отрывая глаз от сына. – Пропадать бы без тебя мамке.
Завидев мать, Мишка отчаянно замахал руками, потом спрыгнул с сиденья и, что-то крича, прямо некошеной травой побежал к ней.
Коса у Анны вжикнула и уткнулась носком в землю. Неужто еще беда какая? С ребятишками, наверно… Обмирая от страха, она все крепче и крепче сжимала окосье в руках.
– Мамка! При-ня-ли! При-ня-ли!
В глаза ей бросилось счастливое, необыкновенно возбужденное лицо сына. Подбежав к ней, он в изнеможении кинулся на кошеницу и, высоко задрав кверху ноги, как жеребенок, начал кататься по траве.
– Кого приняли? Куда?
– Да в комсомол!
Анна попыталась улыбнуться, но губы ее дрогнули:
– Отец-то бы обрадовался. Бывало, ты еще маленький… Возьмет на руки… – И, не договорив, всхлипнула.
Мишка встал, глаза у него потемнели:
– А ты, мамка, опять плачешь. Сколько тебе говорено…
– Плачу, Мишенька. Как жить-то будем?
Мишка насупился:
– Как жить? Проживем. Люди же живут.
– У людей-то не такая семья… Хлеб теперь забираем вперед, а зимой что?
Мишка зачем-то взял из ее рук косу, долго протирал полотно травой и вдруг, воткнув ее косьем в землю, решительно шагнул к матери:
– Видишь, какой я? Во на сколько выше тебя! – Он взмахнул рукой над ее головой. – А ты все – как да как жить…
Черные хмуроватые глаза его вспыхнули:
– А ты думаешь, в комсомол за здорово живешь приняли? Как бы не так! Лукашин знаешь как меня назвал? Товарищ Пряслин, говорит, настоящий гвардеец тыла! Это как? Зазря?
И Мишка, заново переживая недавние события, с жаром начал рассказывать:
– Понимаешь, мамка, все «за»… И сам Лукашин. Я тебе раньше не сказывал. Я еще весной подавал… Ну, в общем, года, русский язык вспомнили… А тут, понимаешь, как получилось? Я и не просил. Лукашин это вчера подходит. Ну, то, се, насчет работы спрашивает, а потом и говорит: «Ты, Михаил, в комсомоле?» Нет, говорю. «Нехорошо, говорит, такой парень, и в хвосте. Пиши заявление». Ну, раз так, я и написал. Понимаешь, мамка, все только и говорили: заслуживает, заслуживает. А Лукашин – вот человек! Такое про меня говорил – я и сам не знал. Всю жизнь расписал…
– Да, да… – она кивала ему головой, улыбалась и в то же время с тоской разглядывала новую прореху у ворота его рубахи.
– А знаешь, мамка, что я сделал? – еще больше загорячился Мишка. – Татьяну Рудакову на соревнованье вызвал! Думаешь, не побью? Дудочки! Я все заприметил, где она время теряет. Жару такого всыплю – будет всю жизнь помнить Пряслина!
Мишка передохнул и вдруг, наклонившись к матери, таинственно зашептал:
– А потом я знаешь что сделаю! В партию вступлю! – И тут от избытка чувств он подхватил мать под мышки и высоко поднял в воздух. От неожиданности и изумления Анна не могла вымолвить ни слова. А когда она опомнилась, Мишки уже не было. Он бежал по лугу широким, качающимся шагом – в белой рубахе, с непокрытой головой.
– Весь в отца… – прошептала она, всматриваясь в удаляющуюся фигуру сына, и впервые за последние недели будто растаяло у нее что-то в груди.
Глава двадцать вторая
У Лизки дел да хлопот полные руки. Шутка ли, домашничать в такой семье! Надо и печь истопить, и с коровой управиться, и ребятишек накормить, и в избе прибрать, и бельишко постирать, – и чего-чего не надо…
Конечно, двенадцатилетняя Лизка многое из этого еще не делает: ее ли руками ворочать чугуны в печи, подымать деревянный подойник? И все-таки в страду весь дом держится на ней. Она с раннего утра до позднего вечера с ребятами и уж с ними-то ведет себя как заправская хозяйка.
– Робятища, – то и дело раздается ее сердитый голосок, – не мешайте вы мне, не путайтесь под ногами. У меня корова не доена, печь не топлена. И что за наказанье такое? Без матери шагу не ступят…
«Робятища» – это пятилетний Федюшка да белоголовая, как одуванчик, Татьянка, которые, по правде говоря, совсем не мешают ей, – сидят себе в нескольких шагах от нее да роются в свое удовольствие в горячем песке. Но так уж положено: раз дети, то они непременно должны мешать хозяйке и на них непременно надо покрикивать.
Прибрав свое черепушечное хозяйство, расставленное все в том же углу между крыльцом и стеной избы, Лизка берет веник, подметает сор, потом, приставив к зеленым, острым, как у кошки, глазенкам худые, измазанные в земле руки, смотрит на солнышко.
– О господи! – хлопает она себя по бедрам, приседая. – Солнышко с полудника повернуло, а у меня и конь не валялся. Придут мужики с пожни голодные, сердитее. Чем кормить буду?
Лизка с еще большим усердием начинает хлопотать вокруг черепков и баночек, время от времени поглядывая на своих «мужиков» – послушных, неразговорчивых мальчуганов Петьку и Гришку; они за дорогой, возле изгороди, ползая на коленях, рвут мокрицу, сооружают игрушечные стога.
Вскоре «мужики» и в самом деле возвращаются домой.
Лизка усаживает их на низенькие чурочки, заменяющие стулья, заводит хозяйственный разговор:
– Как ноне сена-то? Прокормим коровенку?
Потом она достает из «печи» два глиняных колобка, «обжигаясь», сует «мужикам»:
– Съешьте пока по горяченькой, заморите червяка. Харчи-то ноне – сами знаете…
«Мужики», хмурясь, несмело отпихивают глиняные колобки:
– Не-е… Мы по-всамделишному хочем. Дай хлеба.
При слове «хлеб» рыжеватого, веснушчатого Федюшку как ветром поднимает с земли. Он подбегает к Лизке и, шмыгая носом, настороженно и подозрительно смотрит на сестру и братьев: не обошли ли его, не скрыли ли чего-нибудь? Он может есть в любое время суток: разбуди среди ночи – не откажется.
Лизка хорошо знает, что от обеда у них осталась всего-навсего одна постная шáньга[20]. А когда еще вернется с пожни мамка и подоит корову? Солнышко вон где – даже до угла избы Семеновны не дотянуло, а надо, чтобы солнышко в аккурат за крышу двора село. И, как всегда, Лизка оттягивает время еды.
– Ах вы лодыри! – вдруг начинает она кричать на братьев. – Да нешто это страда? Люди днюют и ночуют на пожне, а у нас горе – не мужики. Сиднем сидят дома.
Тут Лизка хватает с чурбака две щербатые крынки, сует их Петьке и Гришке:
– Сбегайте хоть за водой, чем баклуши-то бить.
Те переглядываются, как бы говоря: «Ничего, брат, не поделаешь. Она у нас такая», – и нехотя, опустив головы, идут за водой к грязной кадке соседнего дома.
– А ты чего стоишь как пень? Не знаешь своего дела?
Федюшка, что-то угрюмо лопоча себе под нос, возвращается к Татьянке.
Проходит еще полчаса или час. А дальше терпеть не может и сама Лизка: у нее уже давно урчит в животе.
И вот наступает долгожданная минута. Ребятишки во главе с Лизкой идут в избу. Лизка снимает с пояса ключик, открывает шкаф, в котором хранится последняя шаньга. Делит она, как всегда, на четыре части: самой младшей, Татьянке, еда оставляется на день особо. Братья с затаенным дыханием, боясь моргнуть, следят за руками Лизки – не обделит ли кого-нибудь? Но глаз у Лизки наметан. И все-таки для большей справедливости она говорит Гришке:
– Ну, сегодня твоя очередь, отворачивайся.
Гришка поворачивается спиной к столу.
– Кому? – спрашивает Лизка, указывая ножом на одну из четвертинок.
– Федюшке, – отвечает тот.
Федюшка жадно хватает кусок, загребает крошки.
После еды повеселевшие дети снова играют: сеют лен, ловят шпиона-фашиста, рвут траву в огороде для коровы.
Но проходит час-другой, и Федюшка начинает хныкать:
– Исть хочу. Лизка, дай хлеба…
– Ты опять за свое? Давно ли лопал? Постыдился бы хоть людей, – кивает она на Петьку и Гришку.
Но те, отвернувшись от нее, присоединяются к Федюшке:
– Исть хочем…
– Да нешто вы полоумные? – разводит руками Лизка. – Где хлеб-то видели? Сказывают, в каком-то городе люди всю зиму не ели, с Гитлером воевали, а вы и часу прожить не можете.
Но разве проймешь чем-нибудь этих обжор? Пасти широкие раскрыли да знай горланят одно и то же: хлеба!..
– Ну погодите у меня, – прибегает Лизка к последнему средству, – вот придет Мишка. Он вам покажет. Он вам бока-то прочешет.
В это время где-то совсем близко раздается короткий мык. Все разом смолкают, настороженно прислушиваются. Секунды томительного выжидания. И вдруг вечерний воздух оглашается знакомым раскатистым мычанием.
– Звездоня, Звездоня пришла! – не помня себя, кричит, подпрыгивая, Лизка.
Она хватает из кузова, стоящего у крыльца, клок свежей травы, сломя голову бежит на дорогу. За ней, тоже с травой в руках, – Петька, Гришка, Федюшка. Даже Татьянка и та приподнимается с земли, начинает неуверенно переставлять свои кривые ножонки.
Черно-пестрая Звездоня только что показалась из-за угла соседнего дома. Она идет медленно и важно, лениво помахивая длинным хвостом. Весело блестит глянцевитая шерсть на боках.
Навстречу ей тянутся детские ручонки с пучками травы. Из маленьких, трепетно бьющихся сердечек льются самые ласковые и нежные слова, какие скопились там за недолгую жизнь:
– Кормилица ты наша, пришла…
– Голубушка…
– Иди скореича… Молочка принесла…
– Роднулюшка желанная…
Звездоня, довольная, прибавляет шагу, опять трубит на всю улицу, потом, подойдя к детям, жарко обдает их своим утробным дыханием, привычно вытягивает мокрую, молочною морду. Смачно хрустит трава. Лизка и старшие братья, самозабвенно лаская кормилицу, чешут ей возле рогов и за ушами. Маленькая Татьянка, нагнувшись к земле, пытается собирать оброненные травинки. Травинки не захватываются, забавно выпадают из непослушных пальчиков, и она весело смеется.
Растроганная Лизка нараспев поощряет ее:
– Ох ты моя хорошая! Травушку она собирает для Звездони. Собирай, собирай, моя пригожая… Звездонюшка молочка даст…
Но не таков Федюшка, чтобы заниматься этими глупостями. Он жадно, как волчонок, принюхивается к молочному запаху и даже, присев на корточки, засматривает на вымя.
Но вот и Звездоня во дворе. Длинные тени пересекают улицу, а мамки все нет и нет. Ребята уныло и неприкаянно бродят возле избы, с тоской посматривают на солнышко, которое никак не хочет сесть за крышу двора Семеновны.
Потом, не сговариваясь, один за другим присаживаются на ступеньки крыльца.
– Молока хочу, – первым подает голос Федюшка.
– Погоди уже, – слабо возражает Лизка, – придет мамка, подоит…
– А ты позови Семеновну. Она тоже умеет доить, – несмело советуют ей Петька и Гришка.
– А где она, Семеновна-то? Разве кто страдой сидит дома?
– Ну тогда дай хлеба, – снова бормочет Федюшка.
– Да нешто ты не видел? Крошки не осталось.
– А не дашь – скажу мамке, что ты больше нашего съела.
– Я? – Пораженная такой несправедливостью, Лизка едва выговорила: – Когда это?
– Давеча… – не моргнув глазом, отвечает Федюшка.
– Не ври, вруша!.. А хоть бы и больше – что из того? Я тебя на семь годов старше, а руки-то у меня, смотри, какие. А у тебя вон, как у мясника.
Лизка глядит на свои худые грязные ручонки, и вдруг чувство горькой обиды и острой жалости к себе охватывает ее. Худенькие, костлявые плечики ее дрогнули, и она, уткнувшись головой в колени, беспомощно заплакала.
– Я ведь сама еще маленькая… Не останусь больше с вами – ни в жизнь… Что хочет, то пускай делает мамонька. А я скажу: нет уж, родимая мамонька, нажилась я с ними досыта. Лучше пошли ты меня на самую тяжелую работу…
Плача, к Лизке потянулась Татьянка. За ней навзрыд, в один голос, заревели Петька, Гришка и Федюшка.
Глава двадцать третья
Надежда Михайловна, а лучше сказать – Наденька, потому что в свои девятнадцать лет – худенькая, смуглая, по-мальчишески стриженная – она больше походила на школьницу, чем на учительницу, медленно поднялась в пекашинскую гору, с тоской поглядела на пустынную песчаную улицу, на немые, будто вымершие дома.
У нее ныли ноги, ломило от жары голову, чуть прикрытую пестрой косынкой, горели опаленные солнцем голые руки, лицо, шея. Морщась от боли, она добралась до бревна, лежавшего у изгороди, села в холодок и начала растирать босые запыленные ноги.
– …Нет, это ужасно! Опять отказ! И до чего же противный этот предрика! Наорал, как унтер Пришибеев: «Нечего шляться, барышня! Раз уж ты такая охочая до войны, взяла бы грабли да воевала на пожне…»
Да и она хороша! Вместо того чтобы все объяснить логично, разревелась, как девчонка: у меня мама у немца…
И в райкоме такие же пришибеевы: «Кто детишек учить будет? Немецких гувернеров выписывать?..» Поговори с такими!..
Наденька Рябинина за год до войны окончила педагогический техникум на Орловщине. Она росла в то время, когда советские люди победоносно наступали на Арктику. Что ни год – новый подвиг изумлял мир. Поход ледокола «Сибиряков», челюскинская эпопея, чкаловский перелет через Северный полюс, дрейфующая льдина папанинцев!..
Дух захватывало у молодежи. По вечерам, сбившись у репродукторов, она жадно вслушивалась в эфир. Тысячи и тысячи мальчишек и девчонок мысленно сопутствовали храбрецам, вступали в поединок с суровой стихией. Географические карты школьников в те годы были исчерчены диковинно смелыми маршрутами новых походов и полетов. В половодье с проплывающих льдин приходилось снимать не одного обмерзшего мальчишку, вообразившего себя папанинцем или челюскинцем.
У Наденьки Рябининой были особые счеты со страной белого безмолвия. С детства в ее душу запали рассказы матери о молодом смельчаке дяде, который трагически погиб, участвуя в экспедиции Седова. И все-таки для всех было полной неожиданностью, когда эта тихоня, как называли ее в техникуме, на распределении упрямо заявила: «Направьте на Новую Землю».
Скромный педтехникум на Орловщине не был уполномочен подбирать кадры для Арктики, и все, что он мог сделать, – предоставить Наденьку самой себе.
Мать, старая учительница из маленького городка, привыкшая все оценивать в философическом свете, решила: «Это в ней кровь заговорила», – погоревала, поплакала – и стала собирать свою «черноглазую Арктику» в дальнюю дорогу. И вот в августе того же года семнадцатилетняя девушка с Орловщины на свой страх и риск отправилась в Архангельск.
Свирепое дыхание Севера она ощутила, едва переступила порог облоно. «Романтика», – сказали там. К тому же, как выяснилось, рейса на Новую Землю не предвиделось до лета следующего года. Что было делать? Возвращаться домой, чтобы ребята на смех подняли? Наденька взяла направление в Верхнепинежье один из самых глухих районов области.
В облоно, где всегда ощущали нехватку учителей, не поскупились на краски, расписывая тамошние края. Выходило так, что там и медведи запросто по деревне ходят, и люди передвигаются не иначе как на оленях и собаках.
На деле все оказалось куда как проще. Пекашино, в которое попала Наденька, было самым обыкновенным селом, мало чем отличавшимся от сел средней полосы. Медведи по улицам не ходили, оленей и в помине не было, а низкорослая северная кляча, на которой Наденька тряслась в Пекашино из райцентра, едва ли заслуживала предпочтения перед орловским рысаком. Впрочем, Наденька мужественно выдержала и этот удар. По крайней мере все ближе к Новой Земле! А через год – она в этом не сомневалась – добьется своего. Если надо, весь Архангельск на ноги поднимет, до самого ЦК дойдет.
Зимними вечерами, когда от мороза потрескивали бревенчатые стены школьного здания, она выбегала на улицу и сквозь заиндевевшие ресницы подолгу смотрела на северное сияние. Там, за полыхающими серебряными столбами, чудился ей сказочный остров – Новая Земля.
В воскресное июньское утро все рухнуло. А вскоре от матери перестали приходить письма, и ко всем горестям, которые принесла война, прибавилась еще одна – страх за мать.
Зимой сорок второго года, когда стали собирать теплые вещи для бойцов, она, в последний раз оплакав свои несбывшиеся мечты, сдала меховые рукавицы. Потом, прочитав в газете о подвиге юной партизанки Тани, решила: место ее на фронте. Кем угодно – только на фронт! И вот пять раз ходила она в райцентр, обращалась в райисполком, райком комсомола, райком партии – и все напрасно…
Сидя в холодке, Наденька припоминала сегодняшний разговор в райисполкоме и райкоме, мысленно не соглашалась, спорила. Неужели нельзя понять? Ведь не куда-нибудь – на фронт просится!
На дороге показались две колхозницы с граблями на плечах. Высокую, полную старуху она не знала, а эту, помоложе, светлолицую, в сером сарафане с нашивками, где-то видела. Ну да, вспомнила: сын ее, Сеня Яковлев, беленький мальчик, за первой партой сидел.
Поравнявшись с Наденькой, колхозницы молча, кивком головы, поздоровались. Она проводила их глазами. Далеко под горой в знойном мареве июльского дня серебром вспыхивали металлические зубья конных граблей, медленно двигались по лугу белые платки.
– Учительница-то наша на войну собирается, – услышала она голос Сениной матери.
Наденька насторожилась.
– Как же, – ответила старуха, – девка в самом соку – к парням норовит…
– Поворочала бы сена с нами, прыти-то небось поубавилось бы, – захохотала Сенина мать.
Кровь бросилась ей в лицо. Наденька резко вскочила, пошла, прихрамывая, по деревенской улице. У школы она опять присела. Одна мысль, что она сейчас войдет в свою пустую комнату, – одна эта мысль привела ее в ужас…
Жара все еще не спадала. Кругом тишина и безлюдье – хоть вешайся.
…И почему, почему ее никто не хочет понять? «К парням норовит»! Как не стыдно так выражаться, а еще старая женщина! А эта – Сенина мать? Зимой проходу не давала: «Уж вытяни ты моего-то, Надежда Михайловна. Отец на войне, ради отца прошу…» А теперь вот какие слова! А что она сделала председательнице? Смотрит на нее как на блаженненькую… И Настя – подружка, нечего сказать. Завела про белого бычка: работай в колхозе. А вот если у тебя мать у немцев?
Невыносимая тоска и отчаянье сдавили ее сердце. Она поднялась, посмотрела на песчаную, зноем пышущую улицу и бесцельно, опустив голову, побрела по деревне.
Глава двадцать четвертая
Наденька еще издали услышала плач, а когда она, перепуганная, подбежала к крыльцу Пряслиных, увидела там целый выводок ребятишек. Грязные, со взъерошенными разномастными головами, они, как в непогодь, по-воробьиному жались друг к другу и горько и безутешно плакали.
– Что же вы плачете? Вас кто-нибудь обидел? Лиза, где мама?
– На по-ожне… – захлебываясь слезами, отвечала Лизка.
– Так чего вы плачете?
– Федюшка говорит, я хлеб съела… А я ни капельки не съела… И корова не доена… А они еще глупые… – кивнула Лизка на ребят, – не понимают, что война на свете и мамка на работе… – И Лизка еще пуще разрыдалась.
Наденька беспомощно присела на корточки.
Молча, расширенными глазами она смотрела на этого худенького, вздрагивающего от рыданий ребенка, который рассуждал, как взрослый человек, немало повидавший на своем веку. И, может быть, только сейчас, в эту самую минуту, когда война глянула на нее вот этими скорбными, страдающими глазами ребенка, Наденька почувствовала весь ужас и безмерность страданий и горя, которые принесла война.
– Ну не надо, не надо, хорошие, – спохватившись, заговорила она. – Скоро мама придет…
Но дети не унимались.
Наденька в отчаянии оглянулась по сторонам и вдруг выпрямилась, топнула ногой: