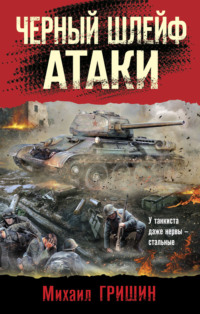Полная версия
Козерог и Шурочка
В середине сентября устоялись последние тёплые дни. Бабье лето.
Лёгкие фиолетовые сумерки обволакивают деревенские улицы. С убранных огородов наносит прогорклым чуть сладковатым дымком сжигаемых плетей. Тишина. Дневные заботы позади, и на людей снисходит покой и умиротворение.
В такие вечера Васяткой овладевает непонятное томление, до боли в сердце начинает маяться душа, в доме не сидится, и он выходит на улицу, прихватив с шифоньера старенькую гармонь.
– А то чево ж, – недовольно ворчит ему в след пожилая мать тётка Прасковья, – заместо того, чтоб своей матке помочь, он гармонь в руки и покель его видали. Давно добрые люди тебя дурака не слыхали, пускай посмеются над тобой непутёвым.
– Лишь бы не заплакали, – бодро отвечает Васятка, на секунду задержавшись на кухне у ведра со свежей колодезной водой. Пьёт он взахлёб, с наслаждением, как будто испытывает нестерпимую жажду, потом бесцеремонно вытирает влажные губы ладонью и самоуверенно заявляет: – Люди меня любят… и я их тоже люблю.
– Чья бы корова мычала, а твоя молчала, – сухо говорит тётка Прасковья и едва ли насильно выпроваживает его из кухни, сердито напутствуя: – Иди, иди, а то, поди, там тебя уже заждались.
Про то, что Васятка матери не помогает, она, конечно, сильно преувеличивает. На самом деле мужик он до работы дюже злой, любое дело в его руках спорится: что на летней кухоньке голландку из кирпича сложить, что новый наличник смастерить из подручного материала, что ясли для козы сделать в сарае, на всё у него есть уменье.
А проявляет тётка Прасковья своё недовольство из-за того, что стыдится перед людьми его ветреного характера: за пятнадцать лет у её Васятки три бабы успели побывать в сожительницах, и девки-то вроде бы не плохие, а вот поди ж ты, не ужился ни с одной. Тут кто хочешь, головой обударится, а уж собственной матери-то переживать по семейному уставу положено. А вообще-то парень он у неё добрый, нечего Бога зря гневить. Да и собой сорокалетний Васятка выглядит не худо: высокий, жилистый, с порывистыми движениями, готовый в любую минуту оказать людям любую услугу, с неунывающим весёлым характером, со злыми искорками в пронзительно синих, как лесное озеро, глазах.
С улицы, возле калитки своего палисадника у Васятки имеется любимое место, которое он специально обустроил для таких вот вечерних посиделок. Здесь он смастерил скамейку из пары дубовых пней, прибив сверху гвоздями на «сто пятьдесят», – чтобы какой-нибудь деревенский дуралей не смог по пьяни оторвать, – три берёзовые жерди.
Васятка не спеша располагается на экологически чистой скамейке, удобно закидывает ногу на ногу, умащивает на остром колене музыкальный инструмент и, привалившись спиной к тёплому шершавому частоколу, начинает негромко наигрывать что-то жалостливое.
На звук гармони из соседних домов выползают подружки: старуха Федячкина, бабка Матрёна и тётка Симониха. В руках у бабки Матрёны большое решето с жареными тыквенными семечками. Решето она неудобно прижимает к животу, оттого у неё и походка как у старой гусыни, – сбоку на бок переваливается. Другие старушки идут налегке, но тоже не ходко, еле двигая больными от возраста ногами.
– Моё почтение прынцессам! – жизнерадостно приветствует Васятка и, не преставая играть, подвигается, уступая место.
– Здорово, коль не шутишь, – в тон отвечает тётка Симониха, пристраиваясь рядом с гармонистом. – Аль опять душа страдает?
Васятка с молчаливым вздохом кивает, задумчиво перебирает лады, потом вдруг резким движением головы откидывает русый чуб со лба и с воодушевлением растягивает гармонь так, что больше уже некуда. Глядя на Симониху озорными глазами, притопывая правой ногой в рваной тапке, с юношеским задором поёт:
Не гармошка завлекает,
Не ее веселый тон.
Завлекает, кто играет —
До чего хороший он!
Должно быть, оттого что голос у Васятки очень красивый – баритонистый с бархатными переливами, как будто у него в горле ручеёк по камушкам течёт, Симониху неожиданно захлёстывают эмоции, и она сейчас же выдаёт ему своим надтреснутым, но довольно пронзительным голоском:
Гармонист играет ладно,
Только ручкам тяжело.
Кабы я играть умела —
Заменила бы его.
Старуха Федячкина, которая было присела на скамейку, живо поднимается и с чувством принимается топтаться на месте, поднимая белёсую пыль резиновыми галошами на босу ногу. Заметно шепелявя из-за отсутствия во рту нескольких зубов, она неожиданно голосисто для своих преклонных лет поёт:
Говорят, што я штаруха,
Только мне не веритша.
Пошмотрите на меня,
Во мне вшо шевелитша!
Бабка Матрёна по-быстрому обтирает мокрый рот от семечек и, не вставая со скамейки, держа на коленях решето, то и дело, сбиваясь на смех, громко и ладно поёт:
Вышла плясать
Бабушка Лукерья,
Там, где не было волос,
Натыкала перья.
Сумеречную сизую тишину потрясает громкоголосый хохот. Едва старухи угомонились, от души нахохотавшись, они чинно рассаживаются рядком, похожие в своих светлых платочках на кур на нашести. Вечерний обряд выдержан, и подружки, стосковавшиеся за день по общению, приступают к неторопливому обстоятельному разговору. Разговор в основном касается Васятки, как мужика молодого, ещё не успевшего набраться ума-разума.
– А вот скажи нам, Васятка, – начинает допрос с пристрастием первая заводила тётка Симониха, не переставая ловко шелушить семечки своими зачерствелыми пальцами, с не по-женски крупными жёлтыми ногтями. В отличие от беззубой Федулихи она ещё может грызть зёрна, но не желает окончательно портит оставшиеся зубы, которые уже никогда не вырастут как у девчонки, которой она была семьдесят лет назад. – Ты мужик вроде не глупый, рукодельный и лицом пригож, что ж ты с бабами не уживаешься? Вот никак мы с подружками не могём этого уразуметь, хоть ты лопни.
– Ваш паровоз давно ушёл, чтоб такие дела разуметь, – непринуждённо отвечает Васятка, и наигрывает туш. – Дым один только и остался.
– А ты всё ж поделись, не таи в себе, – по-доброму настаивает настырная Симониха, – глядишь, что-нибудь и посоветуем. Матери-то, небось, в её годах без снохи-помощницы тоже нелегко обходиться.
– Нормально ей… обходится, – беспечно улыбается Васятка, пожимая плечами. – А чтоб советовать, для этого надо вот тут, – он отнимает правую руку от клавиатуры, продолжая умело играть одной левой и согнутым указательным пальцем значительно стучит себя по лбу, – иметь серое вещество. Советчики! – ухмыляется он и бодро исполняет что-то уж совсем запредельное. – Короткая симфония Шуберта, – объясняет снисходительно Васятка, – исполняется только в тех случаях, когда люди совсем уж берега путают.
– Смеются над тобой в деревне, – строго говорит Симониха, ничуть не обидевшись на его неприличный жест, – ни то ты монах, ни то бобыль.
– Смеётся хорошо тот, кто смеётся последним, – Васятка добродушно скалит свои крепкие, ещё не прокопчённые табаком, широкие зубы со щербинкой впереди. – Я терпеливый.
– Балабол, – говорит сердито Симониха, сноровисто очищает очередное семечко, ловко закидывает в рот спелое ядро и звучно жуёт, всем своим видом давая понять, что бесполезный разговор на этом окончен.
Васятка некоторое время с воодушевлением играет вальс, потом видно снизойдя до простого бабского любопытства, совершенно неожиданно для них, резко обрывает музыку и замысловато говорит:
– Не мои женщины были. Не проникся к ним сочувствием!
– Это как же надо понимать? – живо интересуется бабка Матрёна, мигом сосредоточив своё внимание на Васятке: её задубелая на ветрах и солнце рука с семечком замирает в воздухе.
– Чужие они мне по духу! – принимается с неохотой объясняться Васятка, но его прерывает слабая на уши старуха Федячкина.
– Погодь, милок, – просит она, кротко улыбаясь беззубым ртом, и дрожащими пальцами долго заправляет платок за большое морщинистое ухо, прикладывает лодочкой ладонь и наклоняется к парню. – Теперича гуторь.
– Вроде глядишь, баба красивая, – продолжает вразумлять Васятка любопытных соседок, – и относится ко мне… ну доброжелательно, что ль. А сойдёшься, куда только вся её красота девается, как начнёт орать, ну прямо разъярённая львица. Про красоту разговор по понятной причине пропускаю. Или вторая была. Та тоже сразу вела себя ниже травы, тише воды, а через год, что куда подевалось: и это не по ней, и то не по её хотению. Третья вообще заявила, что её барское благородие изволит жить в городе в своей квартире. А у меня таких деньжищ нет, я не золотой карась и не сын олигарха. Категорично заявляю, что мне с такими попутчицами не по дороге. С ними все ухабы да кочки соберёшь! – хохотнул он.
– Это всё дурость твоя, – нараспев пеняет ему старуха Федячкина. – Мы раньше жили и ничего, как-то швыкались друг ш другом. Конешно всё было, бывало и бил меня мой Федяка. И я его не раз по голове шковородкой прикладывала, ничего четверых детей вошпитали. Прожили.
– У меня бабка жизнь одна, – непонятно с чего вдруг заводится Васятка. – Как сказал один умный человек: «Надо прожить её так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы». Во как сказал! Головастый был мужик, раз такое соображенье имел. Вот я и старюсь придерживаться его советов, дюже я принципиальный на этот счёт.
– Безответственный ты человек, – качает сокрушённо головой тётка Симониха, по всему видно, блюдя женскую солидарность с теми вертихвостками, от которых Васятка успел натерпеться горя. – Этак ты и до ста лет не женишься.
– Мне и одному не плохо, – не расстраивается от её слов Васятка. – Всё лучше, чем терпеть их закидоны. А ежели мне Боженька отмерит сто лет, я ни в коем случае не обижусь, низкий поклон ему за это. Даже свечку в церкви за это поставлю. – И Васятка с воодушевлением играет марш «Прощание славянки».
– Ничем тебя супостата не пронять, – сердится молчавшая до этой минуты бабка Матрёна, самая спокойная из подружек и, горестно качая головой, с жалостью произносит: – Всё как с гуся вода.
– Ладно, – милостиво соглашается Васятка, словно делает старухам одолжение, – найду вот себе бабец по душе, тут и холостяцкой моей жизни конец. А кто слушал, молодец! – Он запрокидывает голову и ржёт, как сивый мерин, и не перестаёт, пока у него от смеха не наворачиваются на глазах прозрачные слезинки. – Костылины в конце сентября меня гармонистом на свадьбу их Зинки пригласили, вот и попробую сыскать там себе кралю. Со всеми своими прежними сожительницами я ведь на свадьбах познакомился. Подопью, бывало на гулянках, и всё: хоть ты что со мной делай, а без того чтобы не проводить понравившуюся мне девку не могу. Как подумаю, что дома скандальная сожительница ждёт, так ноги сами несут меня к какой-нибудь одинокой крале. Дюже они сладкие на любовь. Мои бабы знали за мной эту слабость и не пускали, иной раз до драки дело доходило. Вот как. А наутро естественно жаркий скандал, горшок об горшок и в разные стороны.
– Да ты сам оказывается непутёвый, – сейчас же обличает его в непристойном поведении тётка Симониха, как будто даже обрадовавшись, – а на сожительниц грешишь.
– Может и я не путёвый, – охотно соглашается Васятка и добродушно скалится, чувствуя за собой одному ему ведомую правоту. – Только кому от этого плохо? Всем хорошо! Найдут мои бывшие жёнушки себе прынцев и будут жить-поживать да добра наживать. Только мыслится мне, что во всех моих бедах виноват не я, а проведение – бабье лето.
– Это, с какого же боку? – изумляется бабка Матрёна и опять у неё рука зависает в воздухе.
– Да потому что только в бабье лето со мной такое происходит, – признаётся Васятка вполголоса, как бы по секрету, а сам ухмыляется, и не поймёшь – то ли он говорит всерьёз, то ли на самом деле шутит: – Это как с оборотнями происходит в полнолунии, а у меня в бабье лето и по другой части. Поэтому все ваше советы по любовной линии напрасны и обсуждению не подлежат.
– И-и, – осеняет себя крестным знамением старуха Федячкина, которой от его слов про оборотней становится слегка не по себе и она украдкой оглядывается в темноте по сторонам, – плетёшь чего не след. – И чуть помешкав, убеждённо говорит, умудрённая житейским опытом: – На каждый хитрый болт найдётся своя гайка с резьбой.
– Тут как в лотерее, – громко хохочет Васятка, – уж как повезёт.
Он лихо исполняет на гармони отходную, и они расходятся.
Слова старухи Федячкиной оказались пророческими: запала на Васятку на свадьбе вдовая бабёнка Манька Зарубина. Она приходилась дальней родственницей Костылиным, а жила в соседнем селе.
Уж как её отговаривала местная родня от необдуманного шага, какие только сплетни про него не распускали, но своенравная Манька всё равно их не послушалась и через неделю перебралась в дом к своему новоиспечённому ухажёру. Да ладно бы, если одна, так она ещё за собой и хвост притащила, сыночка своего семилетнего – Владика.
Но больше всего удивило другое: Манька Зарубина оказалась и сама песни петь большая мастерица, и теперь на свадьбы ли, на проводы ли в армию они ходят вместе. Васятка там играет, а Манька за главную солистку, – оба такие голосистые да радостные. Можно сказать, что у них свой семейный ансамбль сложился.
Назад они возвращаются с гостинцами для Владика и для старушки матери. Деньги Васятка принципиально не берёт, и на людях он теперь всегда непривычно трезвый.
– Деньги что, – заносчиво говорит Васятка, как-то повстречав шедшую из магазина тётку Симониху, – деньги прах! – А у самого физиономия с аккуратными белёсыми усиками, которые недавно отпустить для форсу, довольная да гладкая, как у сытого кота.
Три года уже прошло, ничего – живут. Видно и вправду Васятке выпал счастливый билетик.
СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ
Недавний случай свёл меня с удивительной женщиной. Познакомились мы на остановке общественного транспорта. Я ехал в книжный магазин на презентацию нового сборника своих рассказов «Козерог и Шурочка», она куда-то по своим делам.
Эта женщина долго ко мне приглядывалась, делая вид, что просто прохаживается рядом. Но стоило мне обратить на неё внимание, как тотчас подошла.
– А я вас всё-таки угадала, – сказала женщина, и в её устах это прозвучало как: «Вот ты и попался!».
– Вы меня в чём-то подозреваете? – пошутил я, с интересом разглядывая незнакомку, одетую в зимнее пальто цвета «ваниль», отороченное норкой и в норковой шапке. Дамскую коричневую сумку с жёлтым орнаментом на боку, она держала перед собой двумя руками в вязаных разноцветных перчатках, время от времени, кокетливо, постукивая сумкой по коленям. Для своего возраста она выглядела довольно моложаво.
– Боже упаси, – улыбнулась женщина, и я увидел в её рыжих в крапинку живых глазах лукавые огоньки. – Мы с мужем Сашей обожаем читать ваши рассказы в нашей любимой газете «Моя Семья». Особенно запомнился нам рассказ «Не обожгись, морячок». – Она, спохватившись, торопливо сняла перчатку, протянула руку. – Меня Люба зовут.
Её ладонь была мягкой и тёплой. Не раз замечал, есть такая категория милых людей, общение с которыми всегда приятно. Мы разговорились.
– Я ведь тоже отчаянной девчонкой росла, – сказала она, посмеиваясь над собой. – Расскажу вам один случай, выслушайте, думаю, не пожалеете. Мы в юности с мужем настолько горячо полюбили друг друга, что наша безумная любовь нас чуть не разлучила навсегда.
– Уже заинтриговали, – ответил я.
– Вот, видите, – обрадованно сказала Люба, мягко взяла меня под руку и отвела в сторонку от людного места. Там она повернулась ко мне лицом, и я увидел в её красивых глазах вселенскую печаль, должно быть, связанную с воспоминаниями о той давней истории.
Семья Любы проживала в затерянной среди густых и таинственных лесов деревеньке. Эта крошечная деревенька на пять дворов называлась Пучки. Почему так – неизвестно.
Отец Любы служил лесником, дни напролёт проводил на обходе своих обширных владений, бывая дома от случая к случаю. По хозяйству в основном управлялась мать Любы – женщина худая, но жилистая и шумоватая не в меру. Раньше она работала в лесничестве, где ухаживала за молодой порослью хвойных и лиственных деревцев, но потом ушла в декрет, родила девочек-близнецов и как-то незаметно для себя увязла в домашних хлопотах.
Старшенькая десятилетняя Люба считалась главной маминой помощницей. Она с удовольствием возилась с сестрёнками и очень гордилась, что её подопечные живые, а не тряпичные куклы как у подружек.
В школу девочка ходила через лес за пять километров на маленькую железнодорожную станцию, где в старом бревенчатом доме располагалась восьмилетка. Люба знала в лесу каждую тропинку, каждый закоулочек, были у неё здесь и любимые места: древний могучий дуб в несколько обхватов, конусообразный величественный муравейник с рыжими злыми обитателями, цветущий по весне малинник, увешанный к лету крупными душистыми ягодами. Даже имелся знакомый филин с глазами-блюдцами, обитавший в дупле высоченной берёзы. До недавнего времени дерево было намного выше, пока однажды страшная молния не срезала верхушку, опалив ярким огнём ветви.
Окончив восемь классов, Люба пожелала учиться дальше, чтобы осуществить заветную мечту о высшем образовании. Новая школа-десятилетка находилась в крупном селе Сайкино. От родной деревеньки до неё топать километров десять. А может быть и больше, в лесу километры никто не измерял. Там был интернат, – в нём жили ребята из других деревень, чтобы каждый раз не мотаться туда и обратно. Но Люба всегда возвращалась домой, чтобы помочь матери по хозяйству.
Ежедневные походы через лес её ничуть не огорчали, привыкла. Весной ли, по осени ли добиралась пешком или на стареньком велосипеде. Самое трудное было зимой, когда лесные тропы заносило снегом. Тогда выручали охотничьи отцовские лыжи, изредка родители разрешали запрягать смирного вороного мерина Молчуна.
В девятом классе у Любы и случилась первая трепетная любовь. Этой любовью – кто бы мог подумать! – стал вихрастый рыжий десятиклассник из местных, славившийся на всю школу хулиганскими выходками. Настолько видно притягательным оказалось его круглое улыбчивое лицо с симпатичными веснушками.
– Привет, новенькая! – сказал он, подсев на перемене к ней на подоконник. – Ты мне очень понравилась. Давай встречаться.
– Далеко живу, – насмешливо ответила Люба. – Пучки, это тебе о чём-то говорит? Испугаешься на свидание ходить ночью через лес, – и косноязычно передразнила, – жа-а-них!
– А вот и нет, – не согласился парень, глядя смеющимися глазами в её лукавые глаза, в которых уже зарождалось новое доселе неизвестное чувство. – Живи ты хоть на краю света, вся равно бы я к тебе каждый день приходил.
Прозвенел звонок. Парень неохотно поднялся, сунул руки в карманы и, насвистывая весёленький мотивчик, пошёл по коридору, потом оглянулся и, не стесняясь, крикнул:
– Ты теперь моя девушка! Запомни!
И ведь правда не обманул: с того дня навещал Любу в её дремучем лесном урочище каждый день, честно выполняя данное однажды обещание. Скоро чувства накрыли влюблённых настолько, что даже недолгое расставание до следующего дня было мучительно и больно.
– Я умру, когда ты уйдёшь в армию, – говорила она со слезами. – У меня сердце разорвётся от разлуки.
– Я приду в отпуск, – успокаивал он.
– Всё равно я умру.
– Не говори так, – просил он, – мне страшно.
Люба утыкалась заплаканным лицом ему в грудь и затихала, время от времени всхлипывая и сотрясаясь худеньким телом.
Закончились тёплые деньки, наступила затяжная дождливая осень. Холодный ветер рябил многочисленные лужи, яркие жёлтые листьями плавали в них, как крошечные парусные кораблики. А потом нагрянула зима с её суровыми морозами, сугробами и бездорожьем.
– Любаша, – как-то в середине января сказал огорчённый Саша, – в выходной мы с отцом уезжаем в лес ещё заготовить дров. Вернёмся поздно, поэтому не жди. Увидимся в школе. Прости, пожалуйста.
– Ну что ты, миленький, – улыбнулась Люба. – Я же всё понимаю.
Долгий воскресный день растянулся, как глухая дорога в безлюдной степи.
Управившись с матерью по хозяйству, Люба бесцельно послонялась по дому, посидела у телевизора, повздыхала над фильмом про настоящую любовь. Из бани вернулся отец, принял стаканчик водки и завалился пораньше спать, чтобы с утра отправиться на дальнюю заимку, где были устроены солонцы и подкормка для лосей. Там в последнее время стали пошаливать пришлые неизвестно откуда волки. Люба вышла на улицу.
В небе висела серебряная луна в радужном ореоле. Холодный пронзительный свет красил всё вокруг нежным аквамарином: и заснеженные дворы, и леса и сугробы. Далёкие яркие звёзды, густо рассыпанные по небосводу, загадочно перемигивались, глядя на скучающую в одиночестве девушку. Морозный чистый воздух звенел, словно хрустальный.
– Сама поеду к своему Сашеньке, – неожиданно решила Люба и тихонько засмеялась, прикрыв заиндевевший рот варежкой. – Будет ему нечаянная радость.
Прислушиваясь к хрупкой деревенской тишине, она прокралась в конюшню, осторожно вывела Молчуна. На улице умело запрягла его в лёгкие санки, которые отец всегда использовал при объезде лесных угодий. Потом, таясь, вошла в дом, но мать, готовившаяся ко сну, услышала, окликнула:
– Доченька, долго не гуляй. Завтра в школу.
– Я помню, мам, – отозвалась Люба и впервые за свою жизнь соврала: – Мы с девчонками немного посидим, и сразу домой. Спи, не переживай.
Быстро прошла на кухню, оглянулась, торопливо сняла со стены отцовское охотничье ружьё, патронташ и тотчас выскользнула за дверь.
По накатанной лесной дороге застоявшийся мерин побежал ходкой трусцой. Следом, дружелюбно повиливая хвостом, увязалась чёрная собачка – Цыганок, привыкшая всюду следовать за Молчуном.
«Всё веселее будет», – подумала Люба и не стала прогонять, что собственно было и безнадёжно – так они сдружились.
Вокруг величественно стояли закутанные в пушистые меха сосны. Белое безмолвие овладело обширным лесным краем. Только слышно как по снегу шуршат полозья, ёкает у мерина селезёнка да где-то в ночном лесу трещат от мороза деревья.
В осиннике дорогу перебежал огромными скачками заяц, а на въезде в березняк, над возницей бесшумно пролетел, распластав широкие крылья старый знакомый филин. Миновали косогор, затем узкую лощинку, занесённую недавней метелью настолько, что Молчуну пришлось преодолевать её почти по брюхо. Осталась позади Чёртова падь, старое заброшенное торфяное болото.
Поднялись на пологий лесистый холм, за которым сразу начиналось бескрайнее поле. При свете луны Люба увидела лису, разыскивающую под снегом среди прелых ржаных колосков мышей-полёвок. Лиса на миг замерла, прислушиваясь, потом подпрыгнула и быстро побежала по направлению к лесу, маячившему вдалеке угрюмой стеной.
Поле закончилось. Мерин аккуратно спустился к замёрзшему озеру, по льду перешёл на другую сторону, тяжело выбрался на крутой берег и впереди завиднелись огоньки первых домов, утопающих в сугробах. В селе, вольготно раскинувшемся на берегу большого озера, вовсю шла жизнь: брехали собаки, слышались весёлые голоса девушек и парней.
Люба направила Молчуна в ближайший проулок, который выходил на центральную улицу, прямо к дому, где проживал Саша.
– Вот он сейчас обомлеет, – посмеивалась девушка, потирая варежкой замёрзший нос. – Представляю, какие у него будут глаза.
Собаки, почуяв чужака, зашлись злобным до хрипоты лаем. Цыганок неуверенно тявкнул в ответ и затих, путаясь в ногах у мерина, ища защиты.
– Тпру, – Люба натянула вожжи, размяла затёкшие ноги, потом привязала вожжи к ограде и вошла в знакомую калитку. На веранде за розовыми шторами горел свет, и на громкий протяжный скрип тотчас на порог вышла Даша – младшая Сашина сестрёнка.
– Любань, ты? – одновременно удивилась и обрадовалась она. – А Саша к тебе уехал… на лыжах. Неужели разминулись?
– Давно? – спросила Люба.
– Пожалуй, часа два прошло.
Нежданная гостья быстро развернулась и побежала назад.
– Ох уж эти мне влюблённые, – покачала головой Даша, с порога наблюдая, как Люба запрыгнула в санки, тотчас взмахнула вожжами над головой и Молчун, не привыкший к подобному обращению, испуганно рванул с места в карьер. – Ещё нагонишь! – крикнула она, сделав ладони рупором, чтобы вышло громче.
Понукаемый возницей, мерин в короткое время вернулся в проулок. Там завернул на огороды, где в свете луны виднелась свежая лыжня, и перешёл на рысь.
Цыганок, сильно довольный, что не пострадал на чужбине от недружелюбных сородичей, бежал то по одну сторону санок, то по другую, забегал наперёд, весело поглядывая на Молчуна и на молодую хозяйку.
– Таким ходом, Сашенька, – вслух размышляла Люба, зорко вглядываясь в оставленные им следы, – тебе далеко не уйти. – И жалостливо вздохнула: – Перетрудился, бедненький ты мой дровосек.