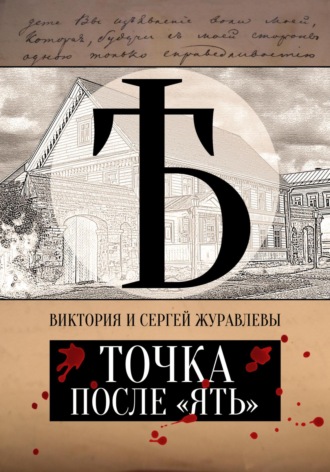
Полная версия
Точка после «ять»
– Будет досадно, если он и взаправду уехал, – проговорил, на секунду отвлекшись от трапезы, Данилевский. – Но ничего, сейчас передохнем и…
Договорить он не успел. За его спиной громыхнула дверь, и на пороге появился краснолицый мужчина лет пятидесяти в помятом котелке и испачканном известкой темном летнем пальто, на рукавах и полах которого в нескольких местах висело репье. Нетвердой походкой гость подошел к стойке и бросил на нее несколько монет, потом он сделал еще шаг-другой и рухнул за ближайший столик.
Половой скорчил недовольную мину, но, не сказав ни слова, смахнул монеты в выдвинутый ящик и исчез. Через минуту он снова появился с подносом в руке. На подносе красовался небольшой водочный штоф на пару с тарелкой с солеными огурцами, выложенными на темных дубовых листьях, с тонкими веточками засоленного укропа и зубчиками маринованного чеснока.
Посетитель тут же наполнил трясущейся рукой рюмку и опорожнил ее, однако закусывать не стал, а налил вторую и отправил ее содержимое себе в глотку вслед за первой. Лицо полового, глядевшего на эту сцену, скривилось еще сильнее. Когда стопка наполнилась в третий раз, слуга приблизился и поклонился гостю:
– Господин Шепелевский! Простите-с, но в нашем заведении не принято заказывать одни только напитки. Быть может, вы изволите-с пожелать горячее?
– К ч-черту горячее! Неси з-заливное, – отмахнувшись от полового, буркнул посетитель.
Мы переглянулись. Данилевский подхватил свою кружку.
– Пиво здесь преотвратное! Наверное, водка получше будет? – Он, не спрашивая разрешения, подсел за стол к незнакомцу. – Вы позволите угостить вас?
– С ч-чего бы это? – осоловело уставился на него Шепелевский. – В-водка тут так же гнусна, как и п-пиво! Впрочем…
– Да-да, вы совершенно правы, – кивнул студент. – Знаете, мой приятель приехал сегодня в город из провинции, но даже там можно найти напитки гораздо достойнее!
– Гм… Что… Что вам нужно? – насторожился Шепелевский.
– Мы просто хотим с вами выпить, разве это кажется вам предосудительным? – И Данилевский кивком головы пригласил меня присоединиться к назревающему застолью.
– Ладно, в-валяйте, – согласился приказчик.
Я подсел к ним и в доказательство нашего радушия вынул бумажник, с нетерпением оглядываясь в поисках полового. Тот, появившись наконец с заливным, бросился нас обслуживать.
Мы выпили и принялись закусывать.
– Но если вы, ребятки, хотите п-перекинуться в картишки, – тыча в нашу сторону вилкой и ухмыляясь, проговорил Шепелевский, – то за этим вам не ко мне! Я н-не игрок! Да и денег у меня нет… Так, хорошо, если за ш-штоф заплатить хватит, – он обернулся к половому и повысил голос, – а остальное – в кредит!
Тот в углу поморщился и принялся за протирку своих стаканов с утроенным усердием.
– О, не беспокойтесь, – ответил я, – карты нас не интересуют. Я хотел бы поговорить с вами о купце Савельеве. Вы ведь знали его, не так ли?
Шепелевский перестал жевать.
– Знать-то знал… Но с чего это вы решили, что я з-захочу с вами об этом разговаривать? – Он хихикнул и вытер губы рукавом. – Одного в т-толк не возьму: кто вы вообще такие? Для шпиков – слишком уж тщедушные, а для п-прочих… Праздное любопытство – дело, друзья, очень н-небезопасное!
– Я купцу Савельеву прихожусь племянником, – не стал дольше тянуть я.
Шепелевский поднял на меня взгляд. Рука его снова потянулась к штофу.
– Племянничек, значит? Не завидую я тебе, п-племянничек! Зря ты сюда сунулся, ох зря! Уже больше месяца, как я не при делах. Как раз с того дня, как мой благодетель, Петр Устинович, скончался, Ц-царствие ему Небесное. – Он перекрестился. – Мне, господа, расхотелось кому-либо служить. Да-с! Бывает и такое. – Шепелевский, опрокинув очередную рюмку, икнул и перекрестил рот. – Вы, молодые люди, так обычно с-спешите на службу, так резво бежите продать свою свободу… Но ваша свобода – д-дешевый товар, ибо вы готовы отдать ее за сущие копейки. Совесть – во-о-от что у вас охотно купят, а б-больше ничего…
Шепелевский помутневшими глазами рассеянно оглядел трактир и, упершись взглядом в уже опустевший штоф, попытался выбраться из-за стола.
– Позвольте нам проводить вас, – ринулся к нему Данилевский.
Приказчик, оттолкнув поданную моим приятелем руку, с третьей попытки с трудом поднялся и поплелся к двери. Расценив отсутствие ответа как согласие, мы расплатились и поспешили за ним. Когда мы спустились с крыльца, Шепелевский, уже с трудом стоявший на ногах, вдруг начал заваливаться набок. Данилевский едва успел ухватить его за шиворот.
– Куда вас доставить, господин Шепелевский? – спросил он.
Тот в ответ неопределенно помахал рукой, указав на небольшой грязный домишко в конце улицы, и мы осторожно повели приказчика под локти.
Войдя в дом, мы поднялись по крутой темной лестнице на второй этаж. Здесь пьяница долго рылся в карманах, пока из одного наконец не выпала связка ключей. После нескольких безуспешных попыток хозяина отворить свою дверь нам пришлось прийти ему на помощь, и дело наконец все же увенчалось успехом.
Занимаемая Шепелевским комната была маленькой и неопрятной: старая потертая обстановка, пыльные занавески, испачканная одежда, сваленная комом на стульях и на кушетке. Окурки, обрывки промасленной бумаги, смятые фантики, ореховая и яичная скорлупа – все это валялось на полу и на столе, покрытом грязной скатертью. Хозяина, который теперь стоял, прислонившись к дверному косяку лбом, чистота его жилища, видимо, мало беспокоила. Мы подхватили его под руки и усадили у стола на замызганный сафьянный диван.
Шепелевский обвел нас тусклым взглядом и заплетающимся языком проговорил:
– Эй, п-парень… Там, в ш-шкафу, – он махнул рукой куда-то в сторону, – н-настойка… Н-неси…
Я подошел к шкафу и достал бутылку. Там же оказались и стаканы, столь запыленные и засаленные, что я начал озираться по сторонам в поисках салфетки.
– Так ч-что же ты х-хотел у меня узнать, хозяйский племянничек? – развалившись на своем диванчике, ухмыльнулся Шепелевский.
Я поставил бутылку на стол. Красно-коричневый оттенок настойки и взвесь на дне не внушали мне доверия.
– Вы ведь служили у Петра Устиновича? – начал я.
– Лет сто… – выдохнул приказчик. – Савельев полагался на меня… Да, полагался! Все сделки со мной! Со мной, слышите? Я же все учую, все подвохи увижу… П-правой рукой его был… – Он поднес к своему лицу правую ладонь, потом вдруг плюнул в нее, вытер об себя и потянулся за бутылкой.
Данилевский схватил посудину за горлышко и придвинул ее к себе.
Шепелевский поднял голову и удивленно посмотрел на студента.
– А правду говорят, будто вашего хозяина отравили? – вдруг спросил Данилевский.
Приказчик вздрогнул. Его пьяные глаза загорелись недобрым огнем. Он стукнул кулаком по столу, смахнув нетвердой рукой со скатерти ореховую скорлупу:
– Савельева, что ль? Да к-кто ж их разберет? Вон у князя спроси, у его сиятельства, у Кобрина! П-понял, да? Не по Сеньке ш-шапка такие вопросы задавать…
Я вытер стаканы собственным носовым платком и поставил их на стол. С видимым неудовольствием Данилевский разлил из бутылки сомнительную жидкость. Мы сели и молча чокнулись.
Шепелевский, мгновенно опорожнив свой стакан, хлопнул им об стол.
– Вы, ребятки, с-совсем не те вопросы задаете. Вот спросили бы вы меня, что вам д-делать, и я бы вас уму-разуму н-научил. А наука простая, любезные, простая, да: не связываться с Кобриными. – И он замотал головой, будто стараясь стряхнуть с себя хмель. – И со мной… н-не связываться!
– Вы подписали завещание Савельева? – отставив нетронутый стакан, спросил я.
Шепелевский нехотя кивнул:
– Под… Подписал. Все его завещания подписывал, все… – Приказчик снова плеснул в свой стакан настойки и снова залпом опустошил его. – И в последний раз тоже.
Он снова мотнул головой туда-сюда, кажется, в поисках закуски, но, не обнаружив вокруг ничего подходящего, поднес к носу рукав и замер, будто был готов упасть на стол и уснуть. Довольно долго он не шевелился, а потом моргнул, встрепенулся и буркнул:
– Закурить… есть?
Данилевский достал из кармана жестяной портсигар.
К потолку комнаты тонкой едкой струйкой потянулся дым.
– Огибалов, с-сволочь, приехал… Мол, при смерти х… хозяин, а я еще от Пасхи тогда не отошел, так гулял… – Шепелевский с трудом копался в своей замутненной спиртным памяти. – Отвез м-меня, сказал, что надо, дескать, подписать… Я не читал, сразу подписал… А потом… эти с-сволочи, князья, старший и м-младший, конверт мне всучили, то-о-олстый такой. – Приказчик сипло зашептал: – Вот, мол, подношение вам в благодарность за услугу… А если что, то при свидетелях берешь! Это при Огибалове-то, п-паскуде этой! А что подписал, того я и не читал. Нет, не ч-читал…
– Вы подписали документ, который оставляет семью Савельева ни с чем, – сказал Данилевский.
Приказчик грохнул кулаком по столу:
– Ты, щ-щенок, думаешь, что я того не знаю? Газетные щелкоперы всю п-плешь уже проели, ан нет: и вы, благодетели, т-туда же! А как же? Что я, против Кобриных пойду? Да накось выкусите. – Он по очереди показал нам грязный кукиш. – Петра Устиновича не воскресишь, а из-за м-миллионов его я ш-шутить с огнем не намерен…
Мы с Данилевским переглянулись.
– Зато, Арефий Платонович, можно попробовать отстоять справедливость в суде! Снять грех с души… – вкрадчиво начал Данилевский.
У приказчика на лбу вздулись вены. Он кивнул головой, потом приложил палец к губам, затем нетвердой рукой поманил моего приятеля, будто намеревался шепнуть ему на ухо какой-то секрет, а потом вдруг сжал кулак и с размахом ткнул им Данилевского в лицо.
Студент ахнул и вскочил на ноги, зажимая ладонью разбитый нос.
– Грех?! – взревел Шепелевский, перевалившись через стол. – Да кто ты такой, чтобы меня попрекать?! Грех! Да я! Да без меня!.. – Он с налитыми кровью глазами попытался еще раз достать кулаком Данилевского, но тот сумел увернуться.
Я бросился на приказчика и, схватив его за плечи, прижал всем своим весом к столу. Тот, безуспешно пытаясь высвободиться, копошился подо мной, будто огромный неповоротливый жук.
– С-сволочи, – прошипел он снизу. – Все вы сволочи! Что, думаете, только я лже… лжесвидетельствовал? У нас все так! Везде так! Моя мзда ничем от чужой не отличается. Каждый свою взятку берет, каждый…
– Ты это в суде расскажешь, как ты собственного покровителя предавал и продавал. – Я сгреб Шепелевского за шиворот и заставил его сесть на пол.
– Пора ретироваться, – кивнул в сторону двери Данилевский.
Мы вышли из комнаты, и, пока спускались по лестнице, в спину нам летела хриплая пьяная ругань.
– И Савельев ваш был… гад! Ирод, д-душу отвести не давал! После всякого праздника в речку в одном исподнем м-макал… А теперь – ш-шабаш! Кончилось все… Кончилось, слышите?
На улице Данилевский вынул платок и, запрокинув голову, прижал его к окровавленному носу.
– Вот же скотина! – Он поморщился от боли. – А удар-то был неплох, клянусь весами…
– Как-то непохоже, – с усмешкой перебил его я, – чтобы он горел желанием дать показания в нашу пользу.
– Ты неправ, – ответил Данилевский, ощупывая свой уже изрядно опухший нос. – Шепелевский – интереснейший субъект! Подумай: если его вызовут в суд, то достаточно будет пары минут, чтобы он рассказал там все то, что поведал нам. А если его подержат в камере пару дней без капли спиртного, то показания его, поди, будут еще подробнее и правдивее, верно? Нет, это не тот тип людей! Он не станет запираться и юлить, выгораживая кого-то другого. Скотина…
Мы прошли немного и сели на грубо струганную лавочку, вкопанную в землю в тени ветвистого вяза.
– Вернусь к Савельевым и тотчас подготовлю жалобу, – решил я.
– Ты же хотел дождаться приезда матери, разве нет? – ответил Данилевский.
– Нет, это я Аглае так сказал, для отвода глаз. Я хочу сам выступить против князя. Не за юбки же дамские мне прятаться!
– Погоди! Я бы еще, с твоего согласия, со своим дядюшкой посоветовался. Он у меня в таких делах кое-что смыслит. Но он будет дома через три дня. А я бы пока в своей альма-матер хвосты по римскому праву подчистил.
Я пожал плечами:
– Хорошо. Как же еще сдавать римское право, если не с разбитым носом!..
Вечером я и вправду намеревался написать обстоятельное письмо матери. Однако к нам в гости пришла Липа, и я отбросил прочь любые дела.
Если бы кто-нибудь спросил меня, о чем же в тот вечер говорили за столом в доме Савельевых, я не вспомнил бы ни слова. Горчичное платье Липы, серебряная брошка в виде стрекозы на ее груди, изящный локон, упавший на тонкое девичье плечо, – вот все, что в тот момент занимало меня.
Время в ставшей теперь тесной и душной столовой, казалось, ползло медленно и бесполезно, словно готовясь окончательно остановиться. Я едва дождался минуты, когда застолье подошло к концу: какое-то странное ноющее чувство торопило меня, съедая и сжигая изнутри.
Поскольку уже темнело, я предложил Липе проводить ее до дома. Она наградила меня своим неподражаемым смущенно-озорным взглядом и улыбнулась. Мы выпорхнули на свободу в прохладные объятия сада, почти неслышно проскользнули по дорожке и поспешили исчезнуть за тяжелыми воротами усадьбы.
Сумерки сгущались, притупляя цвета, но будто бы высвобождая все те запахи, на которые мы обычно не обращаем внимания в полуденный зной. Яблочные сады за высокими заборами и жасминовые кусты в палисадниках источали благоухание, которое вечерний ветер разносил по округе, смешивая с ароматами домашней стряпни, трактирных горячих закусок и дыма печей где-то топившихся бань. В остывающем воздухе слышались обрывки голосов, звон посуды, лай собак, трели вечерних соловьев и стрекот сверчков. Мы шли по тихому пустому переулку, но все вокруг дышало жизнью. Догорая вечерней зарей, уходил в прошлое сегодняшний день с его тревогами и заботами, с убогим ломбардом Хаймовича, полным всякой рухляди, с мутной тошнотворной настойкой Шепелевского, со зловонием набережной у кожевенного завода. Пусть же этот вечер будет мне наградой!
Мы с Липой говорили и говорили – обо всем на свете, о сотне ничего не значивших пустяков. Пару раз, правда, мне показалось, будто девушка хотела меня о чем-то спросить, но она внезапно останавливалась на полуслове. Как жаль, что сегодня тепло и ясно и приходится просто идти по пыльной дороге, неумолимо приближаясь к конечной цели нашей прогулки, где нам неизбежно придется расстаться! Дорого бы я дал за то, чтобы небо заволокло тучами, как и в тот волшебный вечер…
– Я нынче утром заходила к Аглае, но не застала вас. Пришлось быстро выдумывать предлог, чтобы уйти и вернуться позже, – сказала Липа и, чуть помолчав, добавила: – Мне кажется, Надежда Кирилловна что-то подозревает.
Ее лоб пересекла тонкая морщинка, но даже удрученность была ей к лицу. Я едва не рассмеялся, но сумел сдержаться: ведь тогда она разозлится или, тем паче, обидится и будет для меня еще милее и желаннее…
– Это не важно, – ответил я. – Сегодня мы с Данилевским обошли свидетелей, подписавших завещание, и сумели кое-что выяснить. Ничего ошеломляющего, но персонажи очень любопытные. Один, владелец ломбарда, умер сразу после смерти дядюшки. Странное совпадение, вы не находите? Мы смогли поговорить только с его сыном, но тем не менее многое проясняется. Другой свидетель, бывший приказчик, тоже явно что-то знает! Если за дело возьмутся хорошие адвокаты, то получится очень занимательный судебный процесс. Непременно завтра составлю и подам жалобу, – я был полон решимости, – и, думаю, уже к празднику Покрова все будет кончено. Наши доказательства неоспоримы! Полагаю, во избежание шумихи мне стоит перебраться обратно в гостиницу Прилепского.
– Как у вас все гладко, Миша, – вздохнула Липа, – вы так грезите своим успешным будущим…
– Мои планы не останавливаются на получении наследства. – Мой рассказ вдруг вселил в меня уверенность и придал смелости. – Пароходство – это ведь не просто дело, доход и благосостояние!
Липа замедлила шаг. Я остановился и, взяв ее за руку, мягко повернул к себе.
– А что же еще? – Девушка подняла на меня глаза.
– Это возможность… – Я решился пойти ва-банк. – Олимпиада Андреевна, отсрочьте, разорвите помолвку! Ведь вы же не будете с ним счастливы! Не ради же насмешки вы позвали меня в ту часовню!
Липа продолжала смотреть на меня. Она придвинулась ближе, и ее пальцы в ажурной перчатке дотронулись до моей щеки. Так обычно гладят расшалившегося ребенка, стараясь успокоить его.
– Вы почти правы, Михаил Иванович, не просто так.
– Тогда к нашим общим тайнам давайте прибавим еще одну. Я… Я люблю вас!
Пальцы Липы коснулись моих губ.
– Миша, прошу вас, остановитесь! – ответила девушка. – Даже если я захочу отказаться от помолвки, отец никогда не даст мне этого сделать. Хотя и очень жаль: я всегда была уверена, что сама смогу лучше выбрать свою судьбу, и, кажется, не ошиблась.
– Ну тогда попросите повременить с объявлением о свадьбе! Как только я докажу в суде свое право на наследство, мне будет с чем прийти на разговор к вашему отцу.
– Тогда вам, Михаил Иванович, стоит поторопиться! После суда нам предстоит не менее трудное испытание… – В глазах Липы засияли радость и надежда.
Мне вдруг представилось, как ей и до того грезились уют зимних вечеров, шумные встречи с гостями, веселые песни под цыганскую гитару на палубе парохода, чайные застолья в саду, ажурные зонтики, красивые платья и шляпки и все то прочее, что окружает счастливую супругу в благополучном семействе.
Я всею душой готов был разделить эти чаяния.
Губы Липы были так близки, что я ощутил ее нежное дыхание и с трудом удержался от того, чтобы не поцеловать ее прямо там, посреди пыльной мостовой, на глазах у припозднившихся прохожих, привлекая их неуместное праздное внимание.
Мы продолжили наш путь. Переулки сменяли друг друга, будто умышленно запутывая нас и предельно удлиняя нашу дорогу. Я явственно чувствовал, как в моей руке пылает обтянутая тонкой перчаткой рука Липы.
Мы были счастливы. В этот миг весь мир существовал только для нас…
Когда Липа упорхнула за ворота своего дома, я еще долго стоял у витой ограды и смотрел девушке вслед. Мне не хотелось уходить. Я вглядывался в темные окна дома, жадно вдыхая стынущий свежий летний воздух. Где-то за сдвинутыми портьерами блуждали отблески свечи, но тут же исчезали. Только в саду в надвигающейся на усадьбу темноте будто светились на кустах маленькие янтарные цветы.
В одном из окон второго этажа вдруг вспыхнула лампа. Я вздрогнул. Теперь я почему-то был уверен, что знаю, где находится комната Липы. Мне показалось, что в проеме окна на мгновение мелькнул девичий силуэт с распущенными локонами.
Окно распахнулось. Неужели она тоже всматривается в темноту, любуется этим садом и этими цветами? Как много я сказал бы ей, если бы она оказалась сейчас рядом со мной! Почему я должен отказываться от нее? К чему эта несуразная помолвка? Что она даст ей? Все это совершено неправильно! Если подложность завещания будет доказана, моего пароходства будет вполне достаточно, чтобы я смог составить Олимпиаде Андреевне достойную партию. Но разве это самое главное? Возможно, это важно для ее семейства, для фамилии. А для самой Липы? Разве так нужен ей этот жених, если именно меня она выбрала для того вечера в часовне, для наших прогулок? Нет, не может быть! Я совершенно уверен: это был ее призыв, ее стон, ее мольба…
Итак, нужно действовать без промедления. Нет у меня тех дней, о которых просил Данилевский, нет! Жалобу в Управу благочиния надо подавать завтра же, чтобы дело было рассмотрено безотлагательно, пока еще никто не забыл о смерти поверенного, о смерти владельца ломбарда, да и о смерти самого купца Савельева. Сейчас же я вернусь и напишу сначала письмо матери, а затем и ту самую бумагу, которая поможет мне сокрушить Кобриных. Я смогу добиться справедливости, и мне не будет отказа ни в одном купеческом доме Москвы!
Уходя, я заметил у придорожной канавы желтые купавки. Они тоже, подобно кустам в саду, светились в сумерках призрачным светом. Я сорвал их, переплел стебли и листья между собой и, не задумываясь о том, как наутро это будет расценено в доме, вставил свой букет в тяжелое кольцо, которое держала в своей оскаленной пасти привинченная к калитке медная львиная морда.
Глава X

Прошло два дня, как я подал прошение в Управу благочиния. Сухощавый сгорбленный секретарь в черном поношенном мундире спрятал тогда бумагу в свою потертую кожаную папку и пробубнил мне, что жалоба обычно рассматривается по меньшей мере месяц. В ответ на это я лишь усмехнулся: столь важное заявление наверняка рассмотрят безотлагательно.
Что ж, дело было сделано, и все же с тех пор я не находил себе места. Пусть Данилевский и предупреждал, что ему будет в эти дни не до меня, я решил навестить его. Мне не терпелось все ему рассказать. Придется признаться, что я, так и не дождавшись совета более сведущего человека, подал жалобу, но, в конце-то концов, это все же мое семейное дело!
Очередной летний прохладный вечер оживил Замоскворечье. По пути мне приходилось то и дело расходиться с громкоголосыми разносчиками, спешившими продать остаток своего товара, с малоприметными чинами в серых мундирах, закончившими службу и запиравшими конторы на ключ, обгонять шумные веселые компании студентов и чинно прогуливавшиеся вдоль бульваров парочки, укрывшиеся под кружевными зонтиками.
Мимо меня по мостовой прогрохотал большой черный рыдван, заглушив на мгновение голоса зазывал и распугав в разные стороны уличных собак: похоже, с таким огромным скрежещущим чудищем никому из местных псов сталкиваться не приходилось, а продолжать знакомство никому из четвероногих оборванцев не захотелось.
Я уже почти выбрался из всей этой толпы, чтобы свернуть в нужный мне переулок, но вдруг услышал властный низкий голос.
– Господин Барсеньев, добрый вечер! А вас-то я как раз и ищу.
Я повернулся и похолодел. Около панели стоял тот самый рыдван, пару минут назад привлекший мое внимание. Из-за приоткрытой дверцы экипажа на меня смотрел сам князь Евгений Константинович Кобрин.
Он жестом пригласил меня внутрь, и я, помешкав секунду-другую, сел в карету. Кроме князя, в ней сидел еще один человек – лет тридцати на вид, с напомаженными и зачесанными назад волосами, одетый в костюм-тройку и с большими очками в роговой оправе на носу. Он перебирал какие-то исписанные листы и даже не поднял головы при моем появлении, нисколько не заинтересовавшись моей персоной.
– Мне, Михаил Иванович, очень бы хотелось обсудить с вами одно дельце, – сказал князь. – Вы, наверное, уже догадались, о чем пойдет наш разговор?
Я открыто взглянул в его самодовольное лицо и, стараясь говорить четко и спокойно, ответил:
– Да. Я так понимаю, разговор пойдет о жалобе и подложном завещании?
Князь чуть поморщился, но тут же по его лицу снова растеклась любезная улыбка.
– Нет, господин Барсеньев. Мы с вами поговорим о справедливости. И о компромиссах. Нам с вами вообще есть о чем поговорить. И потому позвольте мне пригласить вас в одно примечательное заведеньице тут неподалеку. Там мы сможем спокойно все обсудить.
Мне была не по душе эта затея, но отказаться я счел неприличным. Поэтому в ответ я лишь кивнул.
Мы проехали в молчании около четверти часа и остановились у какой-то ресторации – на вид весьма солидной, но, пожалуй, недостойной посещения столь знатной персоной, как мой спутник. Впрочем, кажется, его это обстоятельство нисколько не смущало. Места эти были мне незнакомы, но вокруг было довольно много народа, и я, покидая карету, вздохнул с некоторым облегчением.
В сумеречном зале угодливый половой в косоворотке и белоснежных шароварах встретил нас и проводил за столик, предупредительно отгороженный от остального помещения ширмой. Повинуясь взгляду князя, он с пониманием поклонился и исчез.
Где-то за стенкой звенели вилки и бокалы, пиликала скрипка, кто-то смеялся. Но над нашим столом повисла вязкая тишина. Мы с князем с минуту сидели и смотрели друг на друга. Третий же наш компаньон все больше глядел в свою папку, которую он теперь разложил на скатерти.
Князь, покрутив ус, снисходительно улыбнулся.
– Видите ли, молодой человек, – обратился он ко мне, – есть вещи, которые мне положено знать по долгу службы. Поэтому с вашей жалобой я вчера ознакомился самолично. Позволю себе заметить, что у вас незаурядная фантазия. Удивительные измышления! Я даже разозлился поначалу… Вы, юноша, кажется, сами не поняли, на кого вы написали столь отвратительную кляузу.
– У меня есть документы, которые подтвердят правоту моих слов, – перебил я князя, стараясь говорить как можно тверже.






