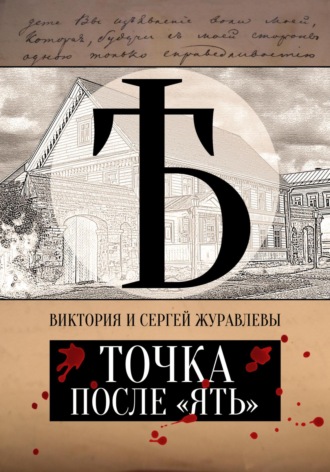
Полная версия
Точка после «ять»
– Прошу простить, Надежда Кирилловна, но время не терпит. Позвольте откланяться. Я всем, чем мог, вам послужил.
Поверенный протянул было руку за бумагой, однако Надежда Кирилловна прижала лист к груди.
– Нет уж, голубчик, я на него еще полюбуюсь, – остановила она законника тоном, не предполагавшим возражений.
Игнатий Фролович кивнул секретарю. Тот подал поверенному его цилиндр и темную кожаную папку с золотым гербом, а сам взял со стола открытую шкатулку и встал с нею в руках рядом с нами. Поверенный же, не обращая внимания на зашумевшую снова толпу и нескольких попытавшихся догнать его репортеров, быстрым шагом покинул зал.
Мы с Аглаей смотрели на документ. Завещание как завещание: витиеватые строчки на именной гербовой бумаге, имя «Петр Савельев» внизу, личная подпись, дата. Ничего необычного.
– Нет, это просто какой-то позор, – вздохнула Надежда Кирилловна. – Ничуть не похоже это на моего Петра Устиновича. Быть такого не может! Иль по болезни не в себе был? Чтоб мне лишь вдовью долю оставить? А как же Аглая? – Она взглянула на дочь.
Аглая выглядела бледнее обычного.
– Ну, полно, матушка… Здесь все только на нас и смотрят. – Кузина взяла у матери лист и передала его мне. – Вот, Михаил Иванович, взгляните и вы внимательнее.
Я стал изучать подписи, скреплявшие завещание. Кроме имени поверенного, тут упоминались еще три фамилии.
– Надежда Кирилловна, позвольте поинтересоваться: кто такой господин Шиммер? – спросил я, перекрикивая гомон, царивший в зале.
– Так это врач наш! Пользовал он Петра Устиновича уже лет десять как. – Вдова усмехнулась. – Говорила я мужу, что все врачи – шарлатаны, а немцы – так и вовсе мошенники. Вот и итог! Не написал бы он такого в здравом уме. Ах, и подпись врача тут же? Ну конечно! – Она всплеснула руками и, подхватив Аглаю под руку, стала пробиваться сквозь толпу к дверям.
Я бросился было за ней, но секретарь, придерживая шкатулку одной рукой, другой цепко ухватил меня за рукав и кивком головы указал на завещание. Я торопливо сунул ему бумагу и поспешил за теткой.
Мне пришлось пробиваться сквозь строй разделивших нас репортеров. Они наперебой что-то кричали, держа в руках свои записные книжки и огрызки карандашей, при этом не забывая широко расставленными локтями упорно оборонять свое место в толпе себе подобных. Поджав губы и не удостоив ответом или даже взглядом ни одного из них, моя тетушка прошествовала к выходу с высоко поднятой головой. С помощью нескольких хороших тычков я смог прорваться через всю эту ораву и догнать Надежду Кирилловну.
– А кто такие эти господа Шепелевский и Хаймович? – спросил я, теперь стараясь расчистить дорогу для нашего дальнейшего отступления.
– Шепелевский служил при нас, – бросила она, стрельнув в меня глазами и делая знак, чтобы я замолчал, – а другую фамилию я и не слышала никогда.
Я прикусил язык.
– Благоденствуйте, Надежда Кирилловна. – В дверях, сделав шаг навстречу, нам преградил путь князь Кобрин.
– Да уж какое благоденствие, Всеволод Константинович! – вздохнула в ответ вдова.
Князь ухмыльнулся:
– Не обессудьте! Мы с братьями всегда слушались Петра Устиновича во всех наших совместных делах финансового свойства, выполним его повеление и теперь.
Он кивнул Надежде Кирилловне в знак прощания и, развернувшись на каблуках, вышел.
Я глядел ему в спину, и меня переполняло негодование. Вот подлец! Почему человек, осознанно совершая подлость, ничуть не стесняется этого, а прямо смотрит в глаза и смеет подтрунивать над обманутыми?! Нет, не может это завещание быть настоящим. Не верю! Не мог мой дядя оставить хоть сколько-нибудь этим высокомерным вертопрахам.
Мы в молчании покинули здание Гражданской палаты. Когда мы вышли на воздух, я услышал, что шедшая за мной под руку с матерью Аглая облегченно вздохнула. У меня тоже голова шла кругом от спертого воздуха зала, от тесноты, от всего увиденного и услышанного.
– Едемте домой, – решительным тоном промолвила Надежда Кирилловна, направившись к поджидавшему нас у ворот экипажу, запряженному шестеркой лошадей.
Аглая вздрогнула.
– Мне бы пройтись, матушка! Нехорошо что-то… – попросила она.
– Это меня не удивляет. – Надежда Кирилловна окинула дочь взглядом и обратилась ко мне. – Так что вы, Михаил Иванович, уж сопроводите сестрицу, будьте так любезны!
Я поклонился ей в ответ.
Слуга захлопнул за теткой дверцу. Экипаж выкатился через широко распахнутые ворота на улицу и под звон конских подков загромыхал по мостовой, распугивая собак, галок и зазевавшихся прохожих.
Мы с Аглаей с минуту смотрели ему вслед, потом молча переглянулись и прошли несколько шагов вдоль по улице.
– Клянусь весами Юстиции, билет в зал суда явно стоил своих денег, – прозвучал вдруг за моей спиной знакомый голос.
Я обернулся и увидел Данилевского. Его изумрудный студенческий китель был вычищен, пуговицы на сюртуке и кокарда на фуражке горели медным огнем, сапоги блестели, перчатки сияли белизной. На долю секунды я даже засомневался, он ли это, но веселый, чуть ироничный голос не позволил мне ошибиться.
– А я на правах родственника не заплатил за вход и, как видишь, неплохо выгадал на этом, – горько пошутил я в ответ. – Как оказалось, даже вдова и дочь покойного имеют самое отдаленное отношение к завещанию.
Студент поклонился стоявшей рядом со мной Аглае. Я поспешил представить его кузине.
В эту минуту у ворот Гражданской палаты остановилась двуколка, из которой появилась тонкая девичья фигура. Я сразу узнал Олимпиаду Андреевну. Она взглянула на распахнутые двери суда, из которых, оживленно беседуя, группками выходили посетители, и покачала головой. Потом она окинула взглядом улицу и, заметив меня с Аглаей, поспешила к нам.
– Так и знала, что опоздаю, – воскликнула Липочка. – Что, все уже разошлись? А я думала, вдруг, как и всегда, открытие заседания задержат? Много ли было народу? А репортеров?
– Все досталось Кобриным, – перебил ее я.
Олимпиада осеклась, перевела ошеломленный взгляд с меня на Аглаю и пролепетала:
– Как?
Аглая сжала кулачки в тонких перчатках.
– Его убили. – Она сверкнула темными глазами. – Отец не мог такого написать! Он не мог им все отдать! Он не мог подписаться просто, как «Петр Савельев». Почетный гражданин и купец первой гильдии не мог так сделать. Такое просто немыслимо. Это сделали они! Сделали и подписью этой нелепой над нами посмеялись. Над нами всеми. И над вами, Мишенька, тоже.
Я покраснел.
– Душенька! – Липочка всплеснула руками. – Как же я могла такое пропустить? А что же вы теперь будете делать?
– Сперва давайте поскорее уйдем отсюда, – предложил Данилевский.
Мы вышли на бульвар. Тут было свежо и свободно. Изредка по мостовой вдалеке грохотали кареты, ландо и пролетки, здесь же деревья дарили нам тень и спокойствие.
– Если завещание подложное, разве нельзя это как-нибудь доказать и вернуть ваше добро? – спросила Липочка.
– Боюсь, это будет несколько сложнее, нежели описывается в дамских романах, – ответил ей Данилевский.
Липа метнула в студента недовольный взгляд.
Тот, совсем от того не смутившись, продолжил:
– Я как, надеюсь, будущий юрист, полагаю, что сейчас еще рано что-либо предпринимать. Объявленное завещание только принято к рассмотрению. В полиции должен быть документ с описью бумаг и имущества на момент смерти. Если родственники не согласны с завещанием и подозревают, что документ подложный, или же считают, что он подписан завещателем, который пребывал не в себе, или же что духовная грамота получена под воздействием угроз здоровью и жизни, то они могут направить жалобу в Московскую Управу благочиния.
– А если это не поможет? – спросила Аглая.
– А если это не поможет, то нужно будет обратиться с прошением на имя генерал-губернатора.
– Скажи, а кто может подавать жалобы и прошения? Только вдова? – насторожился я.
– Любой близкий родственник, – обрадовал меня своей осведомленностью Данилевский.
Но Аглая вздохнула:
– Ну и что это даст? Вот возьмутся опрашивать подписавшихся свидетелей, так Шепелевский, например, наверняка будет мертвецки пьян, и от него вовсе ничего не добьешься. Его после запоя только батюшка и мог в человека превратить! Мы его даже ни разу не видали после нашего приезда.
– А кем вам приходился Шепелевский? – спросил я.
– Арефий Платонович был одним из батюшкиных приказчиков. Тот его давно, до моего рождения, из Самары в Москву призвал. Когда-то он был вполне надежным работником, но последние лет пять дела у него с выпивкой все хуже, особенно после больших праздников. Отец его жалел, не гнал прочь, доверял ему. Но… Нет, в суде его слова и в грош ставить не будут!
– Зачем же останавливаться перед первым же препятствием? – воскликнул я. – В завещании стояла еще подпись некоего Семена Осиповича Хаймовича. Вы что-нибудь слышали об этом человеке?
– Нет, – покачала головой Аглая. – Я, как и маменька, впервые увидела это имя. Но, наверное, нужно справиться у отцовых компаньонов. Батюшка ведь со многими купцами дела вел. Те, быть может, это имя слыхали.
За нашими спинами вдруг загрохотали колеса. Мы обернулись. По почти пустой улице неслась бричка. Сквозь поблескивавшую на солнце листву и кусты, отделявшие мостовую от бульвара, сложно было что-либо точно рассмотреть, но было очевидно, что лошадь понесла и уже не слушается возницу. Затем кто-то вскрикнул, и раздался звук, будто мешок с картошкой бросили на деревянный пол. Экипаж понесся дальше и исчез за поворотом. Все стихло.
Потом на противоположной стороне мостовой, опустившись на панель, тонко и пронзительно закричала какая-то женщина. Улица будто очнулась. Из дверей домов, из лавок, из выходивших на бульвар переулков стали появляться люди. Они тоже что-то кричали друг другу и размахивали руками.
Мы, словно онемев, подошли ближе. На дороге, разметав в стороны ноги и руки, ничком лежал человек в строгом черном костюме. Его цилиндр откатился в сторону, и теплый ветер теребил пряди тонких седых волос, обрамлявших блестящую лысину. В нескольких саженях от нас в грязи валялась раскрытая и разорванная кожаная папка с золотым гербом.
Половые, выбежавшие на шум из ближайшего трактира, перевернули лежащего. Лицо его было мертвенно бледным.
Аглая вскрикнула. Я тоже узнал погибшего. Мы постояли еще немного, а потом развернулись и пошли прочь от этого страшного места. По бульвару за нашими спинами летели, подгоняемые ветром, гербовые листы с печатями, рассыпавшиеся из разорванной папки Игнатия Фроловича Рыбакова, личного юриста купца первой гильдии Петра Устиновича Савельева.
Глава IV

Проснулся я, когда за окном уже вовсю светило солнце, приближаясь в движении своем к зениту. Голова мучительно ныла. Медленно, как тяжелый сон, в памяти всплыли печальные события вчерашнего дня.
Первым делом я распахнул окно, и в комнату ворвался теплый свежий ветер. Затем я добрался до умывального прибора и, зачерпнув руками прохладную воду, омыл лицо. Стало чуть легче. Придя немного в чувство и одевшись, я спустился вниз.
Там коридорный передал мне два письма. Первое было от Надежды Кирилловны: она настоятельно просила меня пожить в ее доме до выяснения всех обстоятельств, связанных с дядюшкиным завещанием. Во втором Аглая писала, что убедила Надежду Кирилловну пригласить меня к ним в дом, и просила не отказываться. Не теряя времени понапрасну, я оставил у коридорного записку для Данилевского с сообщением о своем переезде, собрал вещи, расплатился и покинул гостиницу.
У ворот дома Савельевых меня встретил уже знакомый лай собаки, но на этот раз я беспрепятственно добрался до крыльца. Откуда-то из глубины дома доносились голоса: Надежда Кирилловна явно чему-то возмущалась, Аглая же говорила сдержанно, но было ясно, что они о чем-то спорят.
Осторожно постучав в приоткрытую ради сквозняка дверь, я вошел в переднюю. Разговор стих. Навстречу мне из столовой вышла Надежда Кирилловна.
– Вот и вы, голубчик! А Маша как раз должна была подготовить для вас комнату. Уже все, полагаю, и готово. Чай подадут через три четверти часа, и вы как раз успеете освоиться. Маша! – Хозяйка хлопнула в ладоши, призывая к себе где-то замешкавшуюся горничную. – Проводи гостя!
Я в знак благодарности поклонился.
– А у меня еще столько забот! – продолжила тетка. – Вот еще и приказчик наш попросил рассчитать его. Это ж надо – в такое-то время! Чую, перешел он, как и все мужнино наследство, к Кобриным, вот как пить дать. И ведь не совестно ему, нет. И все беды прямо одна за одной. Даже горничную не докличешься!
Из столовой появилась Аглая. Улыбнувшись мне, она сказала:
– Матушка, по-моему, Маша побежала встречать разносчика, ведь сегодня он обещал нам свежий филей. Михаила Ивановича я и сама провожу наверх, в его комнату. А вы отдохните, вам волноваться неполезно.
Отведенные мне покои были небольшими, но довольно уютными. Тяжелые темно-синие оконные гардины будто впитывали струившийся снаружи дневной свет, не позволяя лишнему проникнуть внутрь. Из-за гардин в комнату кокетливо заглядывали розовые бальзаминчики, сидевшие в горшке на подоконнике. У стены белела кровать, украшенная по углам четырьмя стальными полированными шарами и увенчанная горой пышных подушек. Тусклый медный умывальный прибор был доверху наполнен водой. Тут же стоял громоздкий старый сундук, готовый поглотить все мои скромные пожитки. У кровати в киоте на стене висела икона, настолько старинная и потемневшая, что разобрать изображенный на ней лик было весьма затруднительно.
Аглая гостеприимным жестом пригласила меня войти.
– Я очень рада, что вы перебрались к нам, – сказала она. – Теперь мне будет не так тревожно. Сегодня ночью я ни секунды не спала! Мне все казалось, что сейчас я увижу нашего поверенного. Глупости какие… А сегодня и наш приказчик заявил, что уходит от нас.
– К сожалению, я узнал об этом еще третьего дня, – ответил я. – В вашей лавке он беседовал с одним из князей Кобриных. Это же тот самый человек, что сидел рядом с нами в суде при оглашении завещания, верно?
– Да, это он, Стратон Игнатьевич Огибалов, главный управляющий в делах отца. – Аглая вздохнула.
Мы спустились в переднюю и вышли в сад. Стол под ветвистой яблоней уже был накрыт к чаю. Вокруг порхали бабочки, над самоваром вился дымок. Чуть поодаль, в глубине сада, белела маленькая беседка, окруженная пышными кустами боярышника и увитая лозами девичьего винограда. Мы проследовали к ней по хрустящему гравию дорожки и вошли внутрь.
Кузина села на скамейку.
– Аглая Петровна, – пробормотал я, примостившись рядом, – прошу вас простить мне мои вчерашние слова о наследстве.
Девушка покачала головой.
– Пустое… – ответила она. – Вам нечего виниться! Все вокруг будто помешались на этом наследстве: Огибалов, Шепелевский и прочие. Все, кому доверял мой отец. – Аглая усмехнулась. – Лет десять Огибалов был его правой рукой, и теперь оказывается, что он все знал? А через неделю-другую он просто займет свое место у Кобриных. Как гладко все у них.
– Но этого нельзя так оставить! – воскликнул я. – Нужно подать прошение о пересмотре!
Аглая лишь недоверчиво пожала плечами.
– Самовар еще не готов, – ответила она, – а мне так не хочется сидеть на месте.
Мы вышли за ворота. Тишь и уединение беседки сменились шумом улицы, грохотом повозок и гамом пробегающих мимо стаек уличных мальчишек. Под сенью склонившихся над улицей зеленых вязов, посаженных по обе стороны дороги, мы пошли к золотившейся невдалеке церкви.
Знакомую долговязую фигуру Данилевского я заприметил еще издали. Он махнул нам рукой с противоположной стороны улицы и прыгнул на мостовую, чуть не оказавшись под колесами несущегося по ней шарабана.
Наконец он поравнялся с нами.
– Мне удалось выяснить много занятного, – выдохнул Андрей. – Но приятного мало.
– Да не томи ты со своими реверансами, – не выдержал я.
Данилевский выразительно огляделся. Аглая, поняв, чего тот опасается, свернула за угол и повела нас за собой каким-то узким тихим переулком.
Немного помолчав, Данилевский наконец начал свой рассказ:
– Я дал по гривеннику парочке мальчишек-посыльных из лавки Савельева, чтобы они мои записочки снесли по адресу, да заодно мы с ними очень душевно поболтали. Я им рассказал в красках о вчерашнем ужасном происшествии на бульваре у здания Гражданской палаты, а они мне – о последних днях жизни купца Савельева. Говорят, хозяин чувствовал себя вполне сносно, из дому, правда, не выходил, но делами занимался. В день его смерти посыльные ходили от него с корреспонденцией к купцу Винокурову: у партнеров намечалась крупная сделка по продаже леса. Записки носили несколько раз…
– Именно это вы и хотели нам сообщить? – не оборачиваясь, перебила Данилевского Аглая. – Что мой отец до последнего своего дня оставался трудолюбивым человеком?
– Нет, главное не это! – с нажимом ответил, глядя ей в затылок, Данилевский. – Посыльные видели в день смерти Савельева у ворот его дома карету князей Кобриных. И на следующий день она тоже там появлялась несколько раз. Уверяют, что не могли ошибиться, ибо очень уж хорошо ее знают. Подозреваю, что свидетелей сего факта найдется гораздо больше, если принять во внимание, как о том судачат в городе…
Повисло напряженное молчание. Аглая шла впереди, мы едва поспевали за ней, и я не мог видеть ее лица, но стан девушки, и без того стройный, казалось, еще сильнее выпрямился, а движения ее стали еще более резкими и отрывистыми.
Мы вышли из переулка на широкую улицу и остановились у кованых витых ворот, за которыми в яблочно-сиреневых зарослях утопал большой купеческий особняк, весьма похожий на дом Савельевых.
– Давайте вернемся домой, выпьем чаю и все спокойно обсудим, – сказала Аглая. – Только я зайду за Липой.
С этими словами она коснулась тяжелого кольца, висевшего в пасти привинченной к калитке медной львиной головы, и громко постучала.
Ей открыли, мы с Данилевским остались снаружи.
Вскоре Аглая вернулась вместе с подругой. Олимпиада Андреевна одарила нас лучезарной улыбкой, и я в ответ не смог скрыть свой смущенно-восхищенный взгляд.
Мы повернули обратно к дому Савельевых. Нам оставалось свернуть за угол, чтобы оказаться перед нужными нам воротами, однако Аглая, сделав шаг, вдруг отпрянула назад и остановила нас жестом руки. Мы вчетвером, скрытые пышным кустом сирени, остались за поворотом улицы.
К воротам савельевского дома подъехал черный экипаж, запряженный парой вороных лошадей. Дверца кареты распахнулась, с подножки спрыгнул человек в мундире с блестящими эполетами на плечах и бодрой походкой вошел в калитку.
– Князь… – обернувшись к нам, беззвучно, одними губами, прошептала Аглая.
Мы переглянулись.
– Он здесь явно инкогнито, – сквозь зубы процедил Данилевский. – Гербы, вон, фамильные на карете завешены, да и не по рангу ему совсем на простой конной паре выезжать.
Аглая поманила нас пальцем, и мы двинулись за ней в противоположную от ворот сторону. Пройдя с полсотни саженей, я увидел в ограде маленькую неприметную дверцу.
Кузина, сунув руку в обрамлявшую дверь листву, щелкнула невидимой для нас задвижкой, и мы один за другим проскользнули через эту тайную калитку в сад.
Аглая, потянув меня за рукав, прошептала Липе и Данилевскому:
– Подождите нас здесь!
Наши спутники остались у ограды. Я же последовал за кузиной по узкой тропинке, извивавшейся среди деревьев и выведшей нас к тыльной стороне дома.
– В последние годы отца мучила водянка, и ему было тяжко принимать посетителей наверху, в своем рабочем кабинете, – проговорила Аглая. – Поэтому внизу он приказал устроить для себя приемную, чтобы вести переговоры там. Думаю, матушка поведет князя именно туда.
Мы прошли вдоль дома и оказались среди густых кустов сирени прямо под окнами приемного кабинета. «Только бы Сапсан не решил обходить свои владения именно сейчас», – подумал я, поскольку мое появление в них он всегда отмечал громким заливистым лаем.
Я осторожно заглянул в окно. Как раз в эту минуту дверь распахнулась, и в кабинет, следуя за Надеждой Кирилловной, и вправду вошел нежданный посетитель. Хозяйка дома прошла в дальний угол, к столу, и, встав там, замерла в ожидании.
Князь же остановился у зеркала, висевшего на стене у самой двери. Он вынул из кармана маленькую щеточку и принялся аккуратно расчесывать свои усы. Он был вовсе не так стар, как мне ранее представлялось, – лет, наверное, тридцати пяти, – холен, солиден и, в отличие от своего младшего брата, не выглядел хлыщом и вертопрахом.
– Почтенная Надежда Кирилловна, – низким голосом проговорил князь, по-прежнему разглядывая в зеркале свои идеально подстриженные усы, – спешу вас заверить, что новость о завещании поразила меня не меньше, чем вас.
Потом он повернулся к окну, и мы с Аглаей отпрянули, боясь оказаться замеченными.
Князь подошел к Надежде Кирилловне и продолжил:
– Я бы не стал беспокоить вас своим визитом без лишней надобности, понимая, сколь необходимо вам уединение в столь тяжелую минуту. Но, сказал я себе, ведь именно на мою поддержку для своей семьи рассчитывал покойный Петр Устинович. Посудите сами: дело, которое чрезвычайно заботило его, он передал нам с братьями – кому же продолжать его вести! Ведь и капиталов наших в общих с Петром Устиновичем прожектах более чем достаточно. Однако, задал я себе вопрос, только ли свои капиталы доверил мне покойный? Нет и нет! Его семья также непременно должна оставаться под моим покровительством.
Он приблизился к Надежде Кирилловне и поцеловал ей руку.
Вероятно, это было прилично в дворянских кругах, но Надежда Кирилловна была купеческой женой, и этот жест почтения ее явно смутил.
– Что же… вы предлагаете, любезный Евгений Константинович? – вздохнула она.
– Поддержку! В особенности финансовую. Я намерен выдать вам расписку, по которой вы сможете получить в банке двадцать тысяч рублей. Думаю, это лишний раз докажет мою искренность. Однако… – Князь на секунду запнулся, словно от смущения. – Мне даже как-то неловко вас просить об этом, но я хотел бы уладить один пустяк.
– Какой же?
– Я, Надежда Кирилловна, не менее вашего покойного мужа привык держать свои дела в полном порядке. И хочу забрать некоторые бумаги, которые оставались у Петра Устиновича на сохранении. Я веду речь о старых векселях моего отца. Вам они совершенно ни к чему, а мне весьма потребны: семейный архив всегда надобно держать в порядке. Знаете ли вы что-нибудь о них?
Надежда Кирилловна замялась:
– Я была столь далека от дел и бумаг Петра Устиновича… Надо бы расспросить управляющего. Может, он что-нибудь знает.
В кабинет вошла горничная, держа в руках поднос с чаем и сластями. Мы тем временем продолжали стоять на нашем посту и слушать, но князь Кобрин вскоре распрощался. Его шаги послышались сперва в коридоре за кабинетом, затем на крыльце, потом на посыпанной гравием дорожке. Наконец до нас донеслось фырканье лошадей, щелканье кнута, скрип рессор и удаляющийся цокот копыт.
Когда все стихло, мы поспешили вернуться к калитке. Только здесь мы вздохнули свободно. Аглая тихо засмеялась, прикрывая рот рукой, как хихикают маленькие девочки, прежде чем прошептать подружке на ухо какой-нибудь пустяковый секретик. Как ни странно, смеяться подобным образом захотелось и мне: слишком уж сильное напряжение мы испытали в этот час. Теперь мы оба прыскали и тряслись от смеха, будучи неспособными выговорить ни слова.
– Похоже, князь почтил своим визитом ваш дом, чтобы рассказать пару фривольных анекдотов? – промолвил Данилевский, переводя удивленный взгляд с меня на Аглаю.
– Нет, не совсем, – пытаясь подавить нервный смех, ответил я. – Князь хочет получить назад свои векселя.
– Векселя?
– Ага. – Я снова глупо хихикнул.
– А вот это интересно! Выходит, он уверен, что бумаги остались у семьи покойного.
Мы замолчали и обернулись к Аглае. Та пожала плечами:
– Что вы оба на меня так смотрите? Я впервые слышу об этих ваших векселях! О чем это вы ведете речь?
Я коротко пересказал кузине все то, о чем несколькими днями ранее мне поведал Данилевский: о старом князе, у которого ее отец служил управляющим, о выкупе Савельевым у кредиторов всех долговых обязательств и о спасении им княжеского семейства от неминуемого разорения. Не забыл я упомянуть и о том, что после приобретения всех векселей управляющий уже перестал быть управляющим, а стал успешным купцом, в руках которого, помимо его собственных, оказались все капиталы княжеской семьи.
– Все так запутано, – прижала пальцы к вискам Аглая. – Вы хотите сказать, что мой отец спас их семейство от разорения, но и всеми их богатствами пользовался лишь по своему усмотрению? Это же шантаж!






