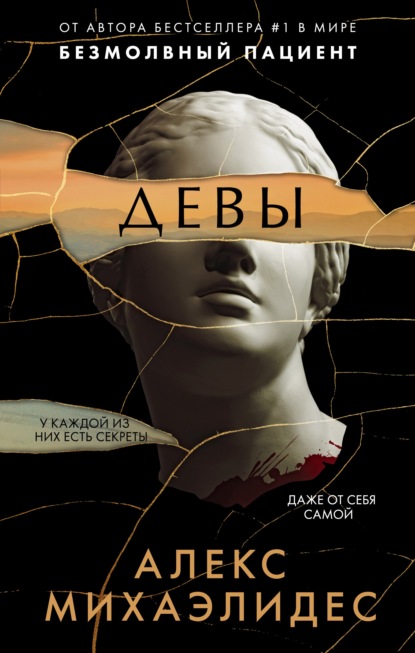Полная версия
Пара из дома номер 9
По моей спине бегут мурашки. Два человека были убиты в моем доме. В моем идиллическом коттедже. Все вдруг внезапно становится каким-то нереально мрачным, как в фильме ужасов.
– И, конечно, мы должны поговорить со всеми, кто жил в доме с семидесятого по девяностый год, – продолжает детектив. – Боюсь, что нам необходимо побеседовать с миссис Роуз Грей, поскольку предыдущей владелицей коттеджа была именно она.
Комната перед моими глазами кренится куда-то вбок.
Роуз Грей – моя бабушка.
3
Май 2018 годаЯ не могу перестать думать о трупах. Я думаю об этом, когда вывожу Снежка на ежедневные прогулки по деревне, когда смотрю телевизор с Томом, когда работаю над проектом в крошечной комнате с цветастыми обоями – по моде 70-х годов – в передней части коттеджа: эту комнатушку я использую как свой домашний кабинет.
Новости не сразу разлетелись по деревне, и, хотя прошло уже более десяти дней после раскопок, люди все еще строят догадки. Они не знают о том, как и когда погибли жертвы, но когда я заходила в бакалейный магазин, слышала, как старая миссис Макналти сплетничала об этом с одной из своих пожилых подруг – сутулой женщиной в платке, с клетчатой сумкой на колесиках.
– Я не могу представить, чтобы в этом были виноваты Тернеры, – говорила эта женщина. – Они жили там много лет. Миссис Тернер всегда была очень застенчивой.
– А с другой стороны, – миссис Макналти понизила голос, ее маленькие глазки вспыхнули от возбуждения, – разве ты не помнишь, что там произошло несколько лет назад? То дельце с племянником ее мужа и крадеными вещами?
– О да, я помню. Ну, они действительно уехали в спешке, – сказала женщина в платке. – Когда это было? Два года назад, верно? И я слышала, что они оставили коттедж в несколько плачевном состоянии. – Она понизила голос. – По всей видимости, они любили всякое старье. Хотя сад поддерживали в порядке. Миссис Тернер сажала тюльпаны, гиацинты… в общем, всякие луковичные цветы.
– А теперь появились эти молодые люди…
– Я слышала, что коттедж они получили задарма. Видать, в наследство.
– Для некоторых это нормально.
Ощущая, как горят мои щеки, я поставила банку с тушеными бобами обратно на полку и вышла из магазина, пока они меня не заметили.
И вот сейчас я беру свой кардиган со спинки стула. Сегодня прохладно, солнце едва пробивается сквозь тучи, и я наклоняюсь над лежанкой Снежка, чтобы поцеловать его в пушистую макушку.
– До встречи, малыш.
Сегодня я заканчиваю работу пораньше – как это бывает каждый четверг, – чтобы навестить бабушку. Я чувствую укол вины, когда вспоминаю, что на прошлой неделе я пропустила свой визит к ней из-за прессы, толпящейся у нашего дома. Однако нынешний четверг будет не таким, как предыдущие. Сегодня, сидя напротив бабушки, я буду гадать о том, что произошло много лет назад. Каким образом два человека оказались убиты и похоронены в ее саду?
* * *Усыпанная гравием дорожка хрустит под моими потрепанными желтыми кедами «Конверс», когда я бегу к своему «Мини Куперу». На мне джинсовый полукомбинезон с подвернутыми штанинами. В нем гораздо удобнее сейчас, когда мой живот начал увеличиваться. Я на шестнадцатой неделе беременности, и это уже можно заметить. Хотя на беременность это непохоже – скорее на вздутие от несварения желудка. Я зачесала свои темные волосы назад и стянула их желтой резинкой, в тон кедам. Моя мама всегда воротит нос от моей коллекции резинок. «Это такие… восьмидесятые годы, – фыркает она, закатывая глаза. – Не могу поверить, что они вернулись». Я не видела ее с Рождества, и тогда все обернулось не очень хорошо – из-за грубости Альберто, ее нынешнего мужчины. Недели летят незаметно, и я до сих пор не сообщила ей, что она станет бабушкой. Каждый раз, когда я думаю о том, чтобы сказать ей, так и вижу ее недовольное лицо.
Садясь за руль, я замечаю мужчину, который стоит на дорожке, частично скрытый передней стеной сада, и смотрит на коттедж. Он коренастый, с лицом как у бульдога, лет пятидесяти с виду, на нем джинсы и куртка из вощеной ткани. Заметив меня, мужчина отступает назад. Он фотографировал коттедж? Наверное, это еще один журналист. Большинство из них на данный момент ретировались – до тех пор, пока не появится новая информация. Но время от времени кто-нибудь из них возникает в округе, как сорняк в моем палисаднике. В субботу, когда мы шли по подъездной дорожке, чтобы вывести Снежка на прогулку, прямо перед нами выскочил журналист, загородив нам дорогу и сфотографировав нас. Том был в ярости и осыпал его бранью, пока тот бежал обратно к своей машине.
Покидаю подъездную дорожку и медленно проезжаю мимо мужчины, стараясь оставить достаточно места, чтобы ему не пришлось вжиматься в живую изгородь. Но в этот момент я замечаю, что он смотрит на меня пристальным взглядом – настолько пристальным, что это меня потрясает. В зеркале заднего вида я наблюдаю, как незнакомец садится в черный седан, припаркованный дальше по холму, рядом с домом номер восемь.
Том вчера пришел с работы и рассказал, что заметил статью о трупах в саду в газете «Сан», которую кто-то оставил в метро. Там был сенсационный заголовок, в котором обыгрывалось сочетание слов «скелеты» и «Скелтон-Плейс»; а еще фотография, которую в субботу сделал тот наглый журналист: на ней были запечатлены мы с изумленными лицами.
– О боже, Том, – выговорила я, чувствуя, как от страха кровь стучит в висках. – Они собираются сказать, что мы – ответ Уилтшира Фреду и Розмари Уэст[5]!
Он от души рассмеялся.
– Нет, не скажут. Это случилось по меньшей мере тридцать лет назад. Мы с тобой тогда даже не родились.
Но моя бабушка уже родилась.
Я вытесняю из головы мысли об этом человеке, пока еду вниз с холма и проезжаю мимо «Оленя и фазана» у его подножия. Вместо этого старательно думаю о том, как спокойно в Беггарс-Нук с его красивыми старыми зданиями из котсуолдского камня. Проезжаю через деревенскую площадь, любуюсь «рыночным крестом»[6], красивой церковью, магазином на углу, кафе и единственным бутиком, где продаются безделушки, открытки и модная дорогая одежда. Все это находится в нескольких минутах ходьбы от коттеджа, в низине, окруженной лесом, где толстенные дубы словно тянутся до самого неба. Создается впечатление, что они, как в легенде, прячут деревню от остального мира. Я переезжаю через мост и продолжаю вести машину по длинной извилистой дороге, по обеим сторонам окаймленной приятного вида каменными домами; в конце дороги раскинулась старая ферма. Все это так сильно отличается от плотно застроенного Кройдона – и здесь так мирно… Или мне так казалось. Теперь я в этом не настолько уверена.
* * *Убийства, должно быть, произошли до того, как бабушка купила коттедж в 70-х годах двадцатого веках. Я знаю, что после переезда в Бристоль она еще несколько десятилетий сдавала его в аренду – эти подробности мы узнали совсем недавно, после того как она попала в дом престарелых. Мы с мамой были несколько удивлены. До этого нам было известно, что бабушка владеет лишь одним домом: рядовым строением из красного кирпича в районе Бишопстон в Бристоле, где выросла мама и где я проводила каждое лето. Бабушка, которая до того, как деменция одолела ее, любила заниматься выпечкой и ухаживать за своими растениями, была спокойной и практичной, никогда не повышала голос. Она была совсем не такой, как мама, у которой короткое терпение и нет фильтра при выборе слов, хотя сейчас ее характер несколько смягчился. Лето с бабушкой, в ее бристольском доме с большим садом и прилегающим участком в конце, было для меня священным временем, отдыхом от мамы и от драмы, которая, казалось, всегда окружала ее.
Я любила бабушкиного Брюса – толстого черного лабрадора с седыми усами (мама никогда не хотела, чтобы мы заводили питомца; она говорила, что от них воняет, но в бабушкином доме никогда не пахло) – и старомодные, удобные диваны с белыми хлопковыми накидками на подлокотниках, которые бабушка стирала и крахмалила каждую неделю. Мягкие ириски, которые она хранила в жестянке на самом верху шкафа, и сад с проволочной изгородью, отделявшей его от соседей. Жаркий, влажный запах теплицы и кустов томата, растущих в ней. Мне было приятно видеть бабушку в теплице, когда она ухаживала за растениями, тихонько разговаривая с ними, чтобы побудить расти быстрее. Я очень люблю свою маму, но она всегда была (и остается) такой энергичной, такой напористой и демонстративной – яркая одежда, чрезмерная склонность к самовыражению, – что иногда она утомляет меня до полного изнеможения. Я всегда ощущала большее сродство с бабушкой: мы обе любим природу и прогулки на свежем воздухе, мы обе немного отшельницы, предпочитающие одиночество толпам людей.
Бабушка помогла мне почувствовать себя нормальной, когда я призналась, что предпочитаю сидеть дома и смотреть сериал «Жители Ист-Энда», а не играть с другими детьми на свежем воздухе. Она сказала, что нет ничего страшного в том, чтобы не бегать все время по улице и не кричать во все горло. В детстве мама постоянно говорила мне, что я «слишком тихая» и «слишком застенчивая», и спрашивала: «Почему бы тебе не пойти и не пообщаться с другими девочками в твоем классе, вместо того чтобы держаться только за одну подругу?» Но мама – общительная, словно бабочка; она порхает от одной группы друзей к другой с легкостью, которой я всегда завидовала, даже если не хотела сама быть такой. В результате в детстве я чувствовала себя неловкой и неинтересной, не зная, что сказать. Так было до тех пор, пока в университете я не встретила Тома. Том дал мне почувствовать, что я могу быть собой, и я поняла, что с ним могу быть остроумной и веселой.
По мере того как я приближаюсь к Бристолю, поток машин увеличивается. Дом престарелых, в котором живет бабушка, находится рядом с двухполосной автомагистралью в городке под названием Филтон.
Почти год назад я начала понимать, что с ней что-то не так. Все начиналось достаточно безобидно. Бабушка всегда была немного забывчивой, вечно говорила: «Э-э-э, ты не видела мою сумку?» или «Куда я положила очки?» – с занятным акцентом кокни, от которого так и не отучилась, несмотря на то что уехала из Лондона в двадцать с небольшим лет. Она всегда была очень независимой и практичной. До самого прошлого года бабушка была достаточно сильной и вполне способной сесть на поезд, чтобы навестить меня в Кройдоне, следуя бумажной карте – у нее были старомодный мобильный телефон и атлас, весь исчерканный пометками и всегда лежавший в ее сумочке, – ведя на поводке своего маленького уэстхайленд-терьера Снежка. Она неизменно отказывалась, чтобы я или Том забирали ее с вокзала, несмотря на наши постоянные предложения.
Первым «звоночком» были две поздравительные открытки, которые бабушка прислала мне на день рождения: одну через несколько дней после другой, как будто она забыла о том, что уже отправила первую. Затем, когда бабушка приехала к нам через несколько месяцев, она показалась мне еще более забывчивой, чем обычно. У нее постоянно вылетало из головы имя Снежка, она забывала выгуливать или кормить его, и мне приходилось напоминать ей или делать это самой. А потом, после того как бабушка прожила у нас несколько дней, она повернулась ко мне и Тому однажды вечером, когда мы смотрели телевизор, и сказала: «Эй, а куда делись другие двое?» От этих слов у меня по позвоночнику пробежала дрожь страха. Потому что никого больше в доме не было. Бабушка сидела с нами весь вечер. И у меня разрывалось сердце при виде того, как она время от времени полностью забывала, кто такие Том или я; ее память то включалась, то пропадала, как неустойчивый сигнал радиоприемника.
В тот приезд стало очевидно, что бабушке тяжело ухаживать за Снежком, поэтому, когда я предложила оставить его у нас, она согласилась. Я скрывала слезы за солнцезащитными очками, глядя, как бабушка садится в поезд без своей любимой собаки, таща за собой чемодан на колесиках, и не переставала волноваться, пока она не позвонила и не сообщила, что благополучно вернулась домой.
Но всего через три дня после этого бабушка позвонила мне в панике и сказала, что потеряла собаку, и мне пришлось мягко напомнить ей, что Снежок теперь живет со мной и Томом.
Последней каплей, заставившей меня связаться с мамой и все ей рассказать, был звонок от одной из бабушкиных соседок, Эсме.
– С твоей бабушкой неладно, милая, – сказала она. – Она оставила кастрюлю на плите, и вся вода выкипела. Хорошо, что я зашла, а то мог бы сгореть весь дом.
Когда я призналась маме в своих опасениях, она прилетела из Испании и отвезла бабушку к врачу. После этого все произошло быстро – но мама всегда добивалась своего, она была весьма решительным человеком, – и для бабушки был найден частный дом престарелых, недалеко от ее бристольского дома с участком, который навсегда останется в моей памяти священным убежищем.
…Я въезжаю на просторную парковку перед огромным серым зданием в готическом стиле под названием «Элм-Брук» – «Вязовый Ручей», – что делает его больше похожим на санаторий, чем на дом престарелых.
Мама говорила, что раньше он был психушкой с решетками на окнах. Но это милое название – «Вязовый Ручей»… Цены на пребывание в нем можно считать средними, хотя бабушке все равно пришлось продать дом, чтобы заплатить за свое проживание здесь. Я сглотнула комок в горле, вспомнив, как чувствовала себя, когда собирала ее вещи, чтобы освободить бристольский дом.
В ноябре прошлого года у бабушки случилось одно из самых долгих просветлений в памяти, и она рассказала нам с мамой о коттедже. Тогда мы впервые узнали о его существовании.
– Он оформлен на твое имя, Лорна, – прошептала бабушка, подавшись вперед в своем кресле с высокой спинкой и держа маму за руку. – Я подписала все документы десять лет назад.
Я поразилась бабушкиной предусмотрительности. Поскольку коттедж был записан на мамино имя, его не пришлось бы продавать, чтобы оплатить бабушкин уход.
После этого, когда мы с мамой стояли возле дома престарелых и прощались, мама, дрожа от холода в своем ярко-оранжевом пальто, повернулась ко мне и сказала:
– Я всегда знала, что моя мать – хитрая бестия, которая постоянно копит денежки. Она наверняка купила этот коттедж, чтобы получать с него лишний доход. – Подышала на свои замерзшие пальцы. – В любом случае он мне не нужен. Он твой, если тебе так хочется. Я знаю, что ты ненавидишь жить в городе.
Это потрясло меня – ведь в кои-то веки я почувствовала, что мама действительно меня понимает.
– Но ты даже не видела его, – запротестовала я.
– Зачем мне коттедж в такой глуши?
Я тоже понимала ее. Коттедж в сельской местности был бы слишком обыденным для мамы. Нет, ей нужно было солнце, сангрия и экзотические мужчины ненамного старше меня.
Мама улетела обратно в Сан-Себастьян, даже не посетив коттедж. Он ее не интересовал совсем – можно сказать, абсолютно. Это помогло мне не чувствовать себя виноватой в том, что я приняла такое предложение. Дом – бесплатно. Без ипотеки. Это означало финансовую свободу – такую, на которую мы с Томом не могли рассчитывать, особенно с учетом того, что ни мне, ни ему не исполнилось и тридцати лет. Это означало, что я могу бросить свою работу в Кройдоне и работать фрилансером, в окружении идиллической сельской местности. Мечта сбылась.
Но теперь я снова вспоминаю тот разговор. Десять лет назад бабушка переписала коттедж на имя моей матери. Почему? Это было сделано исключительно по финансовым причинам? Чтобы избежать налога на наследство? Или потому что она знала, что там произошло убийство?
Но нет, это нелепо. Не может быть, чтобы бабушка знала об этом. Я знаю это так же твердо, как знаю, что люблю черный кофе и бутерброды с арахисовым маслом, бархатистую шерсть на ушах Снежка и запах скошенной травы.
Я делаю глубокий вдох и вцепляюсь в руль, чтобы успокоиться. Я никогда не могу предсказать, в каком состоянии застану бабушку. Иногда она узнает меня, иногда ведет себя так, будто я одна из персонала, и каждый раз я как будто заново теряю ее.
Когда я выхожу из машины, то замечаю, что мимо проезжает черный седан и притормаживает чуть дальше по дороге. Я не уверена, но, похоже, это та же машина, которая была припаркована возле коттеджа. Проезжая мимо, водитель поворачивается ко мне. Это мужчина, но я не могу разглядеть его черты. Это тот же человек, которого я видела до того? Он тоже собирается заехать на парковку? Но потом машина набирает скорость и уезжает вдаль по дороге. Я на мгновение замираю, глядя ей вслед и размышляя: следует ли мне о чем-либо тревожиться, или это просто пустые страхи?
4
Бабушка сидит в комнате для дневного отдыха – в эркере, у окна, выходящего на ухоженный придомовой участок; перед ней стоит кофейный столик, а напротив – пустое кресло. Вышло солнце; оно проникает сквозь тюлевые занавески, освещая пылинки, которые танцуют вокруг бабушкиной головы, словно крошечные спутники. Мое сердце так сильно сжимается от любви, что на глаза наворачиваются слезы. Когда я вижу ее здесь, мне до боли хочется вернуться в прошлое, чтобы все было как раньше: бабушка суетится на своей маленькой кухне, без конца разливая по чашкам чай, темный, точно патока, или в теплице показывает юной мне, как сажать редис.
Бабушкина голова склонена вперед. Лицо у нее уже не округлое, как прежде, кожа на щеках обвисла, скулы выдаются вперед. Ее белоснежные легкие волосы – когда-то они были красивого медно-рыжего цвета, хотя бабушка всегда уверяла, будто красила их, – похожи на вату. Она раскладывает на столе кусочки пазла, и на мгновение это возвращает меня в детство, когда по вечерам после захода солнца мы сидели рядом в уютном молчании и пытались сообразить, в каком порядке приставлять к пазлу кусочки.
Я стою в дверях несколько минут, просто наблюдая. В комнате излишне тепло и пахнет затхлостью, жареным мясом и переваренными овощами. Пол застелен ковром – из тех, которые можно увидеть в каком-нибудь старомодном приморском пансионе: весь в красных и золотых завитках.
– У Роуз хороший день, – слышится голос у меня за спиной. Это Милли, одна из сиделок; мне она нравится больше других. Милли на несколько лет моложе меня, у нее самое доброе лицо и самая широкая улыбка, какую я когда-либо видела. А еще у нее короткие колючие черные волосы и пирсинг в обоих ушах.
– Я рада этому. У меня для нее есть новости.
Милли приподнимает бровь.
– О-о… надеюсь, хорошие?
Я стесняюсь потрогать свой живот и потому просто киваю. Не хочу думать о других, плохих новостях. О телах, найденных в саду.
Милли ободряюще сжимает мое плечо, затем идет дальше, чтобы помочь пожилому мужчине, который пытается встать со стула. Я прохожу в дальнюю часть комнаты, пробираясь мимо других обитателей, сгрудившихся вокруг телевизора, мимо старика, читающего в углу газету, которую он держит вверх ногами, пока не оказываюсь рядом с бабушкой.
Когда я подхожу, она поднимает глаза, и на мгновение на ее лице отражается замешательство. Мне приходится проглотить разочарование. Она не узнает меня. Сегодня у нее все-таки не лучший день.
Я опускаюсь в кресло напротив. У него такая высокая спинка, что мне кажется, будто я сижу на троне.
– Здравствуй, бабушка. Это я, Саффи.
Бабушка молчит несколько секунд, продолжая двигать кусочки пазла, хотя она еще не начала составлять картинку. Коробка стоит на краю стола. На лицевой стороне изображен черный щенок лабрадора в окружении цветов. «Давай сначала найдем края», – всегда говорила она, а ее руки, загрубевшие из-за многочасовой возни с землей и растениями, проворно искали нужные кусочки. Но теперь в ее движениях нет никакой методичности; бабушка просто бесцельно перебирает части пазла, ее морщинистые пальцы сделались узловатыми и неловкими.
– Саффи. Саффи… – бормочет она, не глядя на меня. Затем поднимает голову, и ее глаза озаряются узнаванием. – Саффи! Это ты! Ты пришла ко мне… Где ты была?
Все ее лицо светится, и я протягиваю руку и касаюсь ее хрупкой кисти. Ей семьдесят пять лет, но с тех пор, как ее поместили в дом престарелых, она стала выглядеть намного старше.
Я знаю: осталось недолго, прежде чем бабушкин разум окончательно погрузится в прошлое. Меня не перестает удивлять, как много она помнит о том, что было когда-то, но не может вспомнить ничего из недавних событий – например, что она ела на завтрак.
– Я беременна, бабушка. У меня будет ребенок, – сообщаю я, не в силах скрыть радость и страх в своем голосе.
– Ребенок. Ребенок. Так замечательно! Такой подарок! – Она сжимает мои руки, неожиданно крепко. – Ты счастливая девочка. Это… – Ее глаза затуманиваются, и я вижу, что она с усилием роется в своей памяти. – Тим счастлив?
– Том. И да, он на седьмом небе от счастья.
Бабушка была очень привязана к Тому до того, как впала в деменцию. Она всегда старалась сделать для него побольше, когда мы встречались. Посылала ему мелкие дары: домашний торт, бутылочку тернового джина, который она настаивала сама, ревень, который она растила в саду, зная, что Том его любит, а я – нет. «Тебе нужно его подкармливать», – говорила она мне. Такая уж привычка у ее поколения, постоянно напоминала я себе. Чтобы твой мужчина был доволен. Не то чтобы когда-либо на моей памяти у бабушки был мужчина. Мой дедушка умер еще до рождения мамы.
Бабушкино лицо потемнело.
– Виктор не был счастлив. О нет, он совсем не был счастлив.
Виктор? Я никогда раньше не слышала, чтобы она упоминала какого-то Виктора. Бабушка говорила мне, что моего дедушку звали Уильям, но никогда не рассказывала о нем. Даже мама мало что знала о нем. Но я не хочу прерывать своими вопросами бабушкину речь, поэтому молчу.
– Он хотел навредить ребенку, – продолжает она, морщась, словно от горя.
– Том никогда не сделал бы ничего плохого ребенку. Он – хороший человек. Ты любишь Тома, помнишь ведь?
Ее выражение лица снова меняется.
– О да. Том прекрасный. Том любит поджаристые тосты на завтрак.
Я улыбаюсь. Бабушка всегда готовила Тому полный английский завтрак, когда мы заезжали к ней.
– Это верно.
Как же мне поднять тему двух трупов, найденных в саду? Стоит ли вообще заговаривать об этом? Может, лучше пока не трогать этот ужас… Но потом я думаю о полиции, которая в какой-то момент должна будет допросить бабушку, зная, что та владела коттеджем столько лет, даже если и сдавала его в аренду. Заранее сообщу ей об этом – и появление полиции станет для нее меньшим потрясением.
– И… нам нравится жить в Скелтон-Плейс, – неуверенно начинаю я.
Ее лицо затуманивается недоумением.
– Скелтон-Плейс?
– Там находится коттедж, бабушка. В Беггарс-Нук.
– Вы живете в коттедже в Скелтон-Плейс?
– Да. Мама решила остаться в Испании. Ты же знаешь ее. Она любит солнце и море. Так что мы с Томом живем в коттедже. И это так щедро с твоей стороны… – Я, конечно, уже говорила ей все это раньше.
Бабушка снова начинает бесцельно перебирать кусочки пазла, и я боюсь, что она меня уже не услышит. Я должна что-то сказать, быстро, пока она не ушла в себя.
– И самое странное, что… когда мы начали копать сад, чтобы построить пристройку, то нашли два тела…
Бабушка вскидывает голову.
– Тела?
– Да, бабушка. Закопанные в саду.
– Мертвых тела?
– Э-э-э… да.
А что, могут быть какие-нибудь другие?
– В Скелтон-Плейс?
Я поощрительно киваю.
– Женщина и мужчина.
Бабушка смотрит на меня так долго, что я опасаюсь, не впала ли она в некое кататоническое состояние. Но потом ее глаза затуманиваются, как будто она вспоминает что-то. Вдруг снова хватает меня за руки, раскидывая кусочки пазла так, что некоторые из них падают на пол.
– Это Шейла? – шепчет она.
Шейла?
– Кто такая Шейла, бабушка?
Она отдергивает руки, ее глаза затягиваются туманом недоумения, словно катарактой. Сейчас бабушка похожа на испуганного ребенка, когда сидит вот так, сжавшись в высоком кресле.
– Очень злая девочка. Они все так говорили. Злая маленькая девочка.
– Кто? Что за злая девочка?
– Так они все говорили.
Мне нужно сменить тему. Бабушка начинает волноваться. Я наклоняюсь и подбираю кусочки пазла с ковра.
– Здесь красивый сад, – говорю я, выпрямляясь и глядя мимо бабушки в окно. – Ты, как и раньше, гуляешь там каждый день?
Умственные силы покидают ее с каждым дней, однако физически с ней все в порядке.
Но бабушка все еще бормочет что-то о Шейле и злой маленькой девочке.
Я протягиваю руку через стол и крепко беру ее узловатую руку в ладони.
– Бабушка, кто такая Шейла?
Она прекращает бормотать и смотрит прямо на меня, сфокусировав взгляд.
– Я не… знаю…
– Полиция захочет поговорить с тобой в какой-то момент, но только потому, что ты была хозяйкой коттеджа, и…