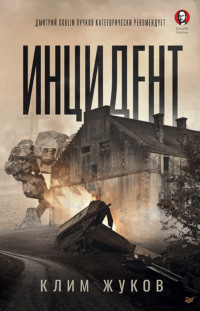Полная версия
Опасные земли
– Пора бы привыкнуть за столько лет, а, Уго?
– Цена ф-сему этому не т-ороже конского я-плока, – отозвался тот хриплым басом, и речь его коверкал тяжкий тевтонский акцент. – Ты бы лучше позаботился о ночлеге, потому что будет настоящая гроза с ливнем, ветром и всем что положено!
– Сомневаюсь… – протянул Жерар, ткнув пальцем в яркое полуденное солнце.
– Очень зря. Если Уго такой сердитый, значит, у него ноет плечо, или колено, или какая другая старая болячка – значит, погода вскоре переменится.
Помолчали.
Мимо плелся пейзаж: частые хутора, колосящиеся пашни, молившие о том, чтобы предсказание насчет дождя сбылось, – уж очень погоды стояли душные недели так две с половиной. Впереди шагала конная колонна передовой стражи, блестя шлемами, а позади тянулся графский поезд, совсем скромный, лошадей в триста, а еще телеги, повозки, груженные съестным и военным припасом.
Замыкал кавалькаду арьергард – сзади над тележными тентами высверкивали копейные грани. Все-таки военный поход, хотя, право слово, смешно – от кого беречься в самом сердце герцогских земель?
Филипп, как истинный рыцарь, вел отряд из дюжины конных, включая пажей и слуг (основные силы его знамени двигались вместе с графским войском). Еще с ним ехал старый воспитатель Гуго в непонятном статусе: не слуга – это уж точно, но вроде как и подчиненный. Хоть и дворянин, но не рыцарь… Словом, друг семьи, исполнявший должность фехтмейстера лет двадцать с перерывами на непонятные дела в непонятных землях.
Кроме того, к де Лалену прибился любезный друг Жерар де Сульмон, который никаких обязанностей при дворе не исполнял, зато был изрядно богат и на войну отправился ради искоренения скуки.
– Послушай, Филипп, – начал он, – вот этот твой Уго, он откуда? Де Ламье… не могу понять, где такое имение? И отчего он не носит герба?
– Ну… как он говорит, фамилия фон Ламмер на древнегерманском означает: «из сияющих земель», а уж где теперь те земли – Бог весть. Если охота, сам у него спроси.
– И спрошу! – обернувшись, Жерар наткнулся на взгляд старика и раздумал любопытствовать.
Глаза у того были ну прямо как взведенные арбалеты.
– Отстань лучше, – посоветовал Филипп и усмехнулся. – Видишь, человек крепко не в духе!
– Будешь тут в духе, – проворчал Уго, весь разговор подслушавший. – Проклятая стрела, мать ее так, распродолбанное плечо так и ломит! Твою же сиенскую маму интересным способом тридцать три раза через забор, фики-фуки!
После чего поворотился и выдал примерного нагоняя слугам, которые заметно отстали и вообще – ленились.
Из головы колонны донеслась команда «рысью», отдохнувшие кони сами подобрали темп, и кавалькада поскакала веселее, подняв к небу пыльный хвост. Как водится, где рысь, там и галоп. Вся дорога испятнана этим пунктиром: шаг – рысь – галоп. И валится, валится под копыта счастливая бургундская земля…
Филипп уставил лицо ветру, привстал на стременах и, сорвав шляпу, заливисто засвистал подходящий мотив, подхваченный соседями.
Молодые рыцари не успели разделаться с песней и до половины, кони, соответственно, не успели как следует вспотеть, когда от головного дозора донеслись соблазнительные крики. Шеренга копий над пыльным облаком сломалась, ржание, кто-то заругался, кто-то закричал.
Филипп вывернул коня на обочину и понесся вперед, провожаемый сердитым возгласом де Ламье:
– Куда?! Без тебя не разберутся?! Вот осел упрямый!
Конечно, разбираться было не с чем. Прав был де Ламье.
Арбалетчики, вовсю скакавшие в шеренгу по два, не заметили старика, переходившего дорогу. Конь ударил того плечом, старик растянулся в пыли, а его длинная клюка, напротив, вылетев из рук, достигла лошадиного носа. Нос слегка пострадал, мерин взвился, арбалетчик рухнул под дружественные копыта, слегка его потоптавшие.
Словом, мелкое дорожное приключение.
Когда Филипп добрался до места, старик сидел у обочины, тряся сединами, арбалетчик ругал белый свет последними словами, силясь потереть ушибленный бок сквозь бригандину, а его товарищи занимались отловом мерина, зачуявшего волю.
Де Лален, как подобает доброму христианскому рыцарю, решил проявить милость к падшим.
– Эй, эй! Папаша! Ты целый? – учтиво поинтересовался он у старика, покинув седло. – Да не мямли! Толком говори!
Рядом уже стоял друг Жерар, а позади возвышалась пыльная фигура де Ламье.
– Дай ему воды, может, очухается.
– У меня только вино. Эй, парни, есть у кого фляга с водой?
– Воды ему! – вскричал пострадавший арбалетчик. – Хрен ему, а не воды, черту старому! Во!
Под носом у старика образовался бугровый кулак.
– Куда лезешь, слеподыр!? Вот сейчас бы затоптали!
– Лучше бы затоптали, – мрачно пожелал жандарм с капитанским шарфом на саладе, подъехавший в суматохе. – Столько времени на всякого пейзана…
– Да будет вам! – Филипп устыдился такой черствости. – Человек все-таки. На вот, выпей.
И протянул флягу.
– Да что вы, добрые господа! – кряхтел старик. – Я ж как бы и не то что бы это… брел вот, не заметил, а тут вы, уж простите…
Вина, однако, причастился от души.
– Жив, скотина, – сказал жандарм.
Арбалетчик сплюнул и пошел забирать изловленного мерина, Жерар нагнулся за клюкой, а Филипп вдруг услышал совершенно отчетливые слова, так не похожие на недавнее бормотание, – чистый, уверенный голос:
– Не езди никуда, малец. Пропадешь.
– Не понял? – Филипп и в самом деле не понял.
– Нечего понимать. Не надо никуда ездить, малец. Скажись больным, упади с коня, вот как этот вот, вывихни плечо и домой, к папочке Оту – здесь рядом, – сказал старик, возвращая флягу.
Де Лален, мягко говоря, опешил. Все прочие звуки, кроме стариковского голоса, отдалились и проникали в уши, как сквозь вату, – это от удивления, не иначе.
– Ты чего несешь?! Какой я тебе малец!
– Не перебивай! – отрезал крестьянин. – Вот сейчас навоюешься, если уж так неймется, – и домой. Не надо потом никуда ездить. Пропадешь.
– Ну вот я тебе сейчас… – Филипп собрался было разозлиться и тут обратил внимание на вторую странность этого дня.
Солдаты вокруг суетились, занимая места в строю, любезный приятель Жерар протянул клюку и отошел, будто бы все в полном порядке, – никто не обращал никакого внимания на хамские речи крестьянина.
Да и крестьянина ли?
Филиппу помстилось выдубленное лицо в обрамлении пламенеющей отраженным яростным солнцем бороды, миндальные глаза, как на иконах византийских схизматиков, долгополая хламида, как древний рыцарский плащ.
«Монах?» – подумал он и слегка отшатнулся.
– Это тебе совет в спасибо за заботу, парень. Да не стой столбом, флягу забери. И никуда не езди, понял?
Де Лален повернулся, чуя зарождающийся страх. А когда глянул обратно, никакого старика на дороге не было – пропал странный дед. И все вернулось на законные свои места – звуки, люди, пыль.
– Н-ну? Голову напекло? – поинтересовался де Ламье. – Забирайся в седло, ехать пора!
– А где старик?
– Точно, голову напекло, – с жалостью сказал Жерар. – Уковылял старичина! Ты чего?
– Да… так. Устал, наверное, да и жара…
Потом был привал, Филипп, непривычно молчаливый, прошелся пару кругов в кости с капитаном жандармов Питером Пфальком, глотнул рейнского и думать забыл про неприятный разговор.
После привала затравили кабана, причем Филипп лично угомонил зверюгу отменным выстрелом из лука. Широкий срезень начисто пересек шейные позвонки – и жизнь наладилась.
О странном старике и его словах, впрочем, молодой рыцарь поделился с де Ламье, который, хоть и угрюмец и замашки у него хамские, а умом зашиб крепко и жизнь повидал. Уго, против ожиданий, Филиппа не высмеял, долго расспрашивал и, ничего не сказав, обещал подумать.
Кавалькада остановилась на ночь в маленьком городке Коринт, да и не городке – селе, разросшемся и зажиревшем сверх всякой сельской меры. Благородные господа оккупировали постоялый двор, кто попроще – сеновалы. За окном громыхала майская гроза, которую предсказывал де Ламье. Тот сопел на полу, завернувшись в плащ, а на соседней кровати – друг Жерар, по-детски засунув ладони под щеку.
«Совсем еще мальчишка!» – подумал Филипп и заснул.
Жерару тогда шел двадцать четвертый год.
Можно сказать, мужчина. А можно и не говорить.
В Камбре Филиппа захлестнули заботы.
Шутка ли, приготовить графскую квартиру!
Наследник не замедлил явиться во главе изрядного войска. А потом потянулись отряды, большие и маленькие, – это собирался арьербан, где каждого с позолоченными шпорами надо было величать сеньором, выказывать уважение и уделять внимание.
Все это свалилось на плечи графа Шароле, дорогого нашего Карла, Ужасного врагам, для всех прочих – Смелого.
Война между тем раскручивала маховик.
Пришли вести, что против короля восстало Бурбонне, что из Нормандии двигается в тяжкой силе герцог Беррийский, а король во главе жандармов направился на юг, дать по шляпе зарвавшемуся Бурбону. Карл потирал руки и довольно усмехался, однако хорошее настроение сильно портили заботы самого гнусного административного свойства. Поэтому Филиппу приходилось трудиться, чтобы в остальном жизнь будущего герцога не клевала, а наоборот.
Советы следовали за совещаниями, артиллерия запаздывала, а люди, облеченные ответственностью (ну, вы понимаете, всякие скучные прево и бальи), прознав, что в Камбре сам наследник, осадили его с делами вовсе не военными. И ведь не пошлешь их куда подальше, так как война требует золота – раз, порядка в тылу – два.
А хотелось.
В смысле, послать куда подальше.
Только что завершилось длиннейшее, утомительное совещание.
Прибыл Луи де Сен-Поль, граф Люксембургский, привез вести о королевской армии и бургундском артиллерийском поезде, без которого много не навоюешь. Карл поинтересовался у сводного брата Антуана, какого дьявола он узнает о своих пушках не от него, а от союзника. Великий бастард не рассказал ничего внятного, тогда Сен-Поль прошелся по его незаконному происхождению. Антуан – мужчина серьезный, предложил прогуляться за город, и старому рассудительному ветерану Гийому де Конте пришлось обоих мирить, потому как наследнику – все шуточки.
Потом коллективно сочиняли письмо для старого герцога, заверяя, что все эти приготовления во имя Марса – только чтобы попугать Валуа, а никак не для войны, упаси Господи.
Велеречивый Оливье де Ла Марш облек эпистолу в подходящие формы, чтобы и глаза запорошить, и до прямого вранья не опуститься.
После прикидывали, стоит ли идти сразу на Париж или сперва прогуляться по Сомме – вернуть спорные города. А если так, то по какому маршруту: Абвиль, Сен-Кантен, Амьен или наоборот?
Карлу хотелось в Париж, что можно понять, но победило взвешенное мнение де Ла Марша и де Конте, направленное на Сомму.
– Ну что же! Осталось дождаться пушек! – подытожил наследник, глотнул вина и вытер руки о бархатный дублет, на котором сверкало Золотое Руно. – Когда, вы говорите, будут пушки?
Сен-Поль приосанился.
– Я встретил поезд в двух переходах от Камбре, мессир. Мы шли налегке скорости ради, поэтому сильно их опередили. Думаю, что через день артиллерия подтянется.
При этих словах де Конте поморщился.
«Налегке» – это значит, что отряд люксембуржца прибыл без обоза и кормить его придется за счет графских запасов – совсем не бездонных. Взгляд его перехватил Антуан и понимающе покивал – такова жизнь, уважаемый!
– Ну что? Чем изволите еще озадачить? – Карл огляделся. – Или я могу, наконец… Ну что еще, Оливье?
– Мессир, вас дожидается поверенный от прево из округа Шиме.
– Мадонна… – граф устало уронил голову на руки. – Опять?!
– Чума, мессир.
– Этим больше некому заняться?! Я уже больше месяца назад послал им этого… как его… врача, дьявол, из Наварры…
– Я думаю…
– Я знаю, знаю. Надо выслушать человека.
– Это, господа, наверное, без меня, – Сен-Поль откланялся и покинул зал совета.
За ним последовали Великий бастард и де Конте.
В зале камбрейской ратуши, где высокие господа и совещались, появился усач в пропыленном камзоле и высоких кавалерийских сапогах. Подмел шляпой пол, поклонился.
По его словам выходило, что в городе Сен-Клер-на-Уазе происходит какой-то беспорядок. Поначалу доложили о вспышке чумы, что совсем нехорошо само по себе. Ведь чума – это такая дрянь: появится в одном месте, а потом успевай собирать трупы от Ла-Манша до Пиренеев!
Граф Шароле самолично послал туда новомодного врачевателя Игнасио Хименеса, кто произвел фурор при дворе одолением буквально любой хвори. Лопес Португалец тогда еще сомневался – чума ли? Чума редко, почти никогда не появляется вот так, в одном городке. Вот Хименес-то и должен был разобраться.
И не разобрался, видать по всему.
Потому что пропал.
И никаких вестей.
Более того, из Сен-Клера перестали приходить торговцы, а ведь там ткали чудесный атлас, да и ювелирные мастерские славились, как… ну… просто славились. Прево послал туда гонца. Пропал и тот.
Пропал и пропал – бывает, пьет, поди, в таверне. Но вот что странно и важно: налоги, которые Сен-Клер за полстолетия не задерживал ни на день, тоже не пришли. Пять с половиной тысяч человек населения, изрядно богатеев, тысяч так тридцать турских ливров ежегодных поступлений – хороший кусок! И прево отрядил туда арбалетчиков на всякий случай.
Полсотни опытных ухорезов.
Надо ли говорить, что пропали и ухорезы?
Вот после этого прево решился потревожить высшую власть. Потому как отвечать за недоимки в тридцать тысяч ему никакой охоты. Мало ли что придет в голову? Не прикарманил ли? Так вот, не прикарманил и даже очень печется. Насчет общественного блага, как нынче модно.
Во время долгой и обстоятельной речи наследник откровенно зевал.
– Сен-Клер-на-Уазе! Мой Бог! Почти что Константинополь! Рим! Вавилон! Троя! Иерусалим! Разрази меня гром, любезный! Я с трудом представляю, где это! В общем, так. Выдайте гонцу за добрую службу десять, нет, двадцать экю. И ради Христа, избавьте мое сиятельство от подобных вопросов!
– Все-таки тридцать тысяч ливров, мессир, – осторожно напомнил де Ла Марш. – Кроме того, Сен-Клер – это граница Шампани, не снюхались ли мерзавцы с Валуа? Ведь, если полыхнет, оттуда до Льежа рукой подать, это значит, что полыхнет и там – надо разбираться!
Мессир скривился.
– Золото, все зло от тебя! Так. Шиме – это в Эно? У нас есть губернатор этой благословенной земли – де Лален! Значит, так: напиши от моего имени тамошнему прево что-нибудь подходящее. Мол, с тревогой следим, с благодарностью принимаем, ценим его заботы, примем все меры, всенепременно. Писец перебелит набело, а добрый Оливье пришлепнет мою печать и вот с этим же добрым господином обратно. Вернемся из Парижа – разберусь. Тридцать тысяч все-таки, и Льеж неподалеку. Все!!!
Графская ладонь тяжело опустилась на подлокотник.
Филипп, высунув язык от старания, тщательно выводил строчку за строчкой. Такая ответственность!
«…посему повелеваю Вашей милости направить в сказанный город еще один запрос, за чем лично проследить. Буде таковой останется без ответа, известить меня, когда выпадет возможность…»
Глава 3
Антиквар
«…когда выпадет возможность. В таком случае обещаю не оставить Вас своею помощью и вниманием. С неизменным почтением к Вашим трудам и заботам, Божьей Милостью, Карл, граф Шароле».
Дата расплылась в неразборчивую кляксу, угадывался лишь год – 1465.
Кирилл извлек из глазницы монокуляр и откинулся в кресле. Подпружиненная ненадежной пластмассой спинка издала протестный скрип.
«Черт знает что», – такое мысленное резюме.
Рука, без сомнений, та же, что и в другом документе. Даже ошибки сходные – писано тем еще грамотеем! Хотя насчет ошибок Кирилл сомневался – не было уверенности в том, насколько твердыми были правила великого и могучего французского языка в пятнадцатом веке. Он просто не помнил, забыл этот сегмент давнего своего образования.
«Торчикозник», как изящно именовал авантюрист Петухов неизвестного наркомана, выделил на пробу шесть листов. Два письма в весовой категории записки, принадлежавших одной руке, и какой-то путевой дневник с совсем другим, практически нечитаемым почерком, на расшифровку коего истрачены половина дня и почти весь вечер.
Дневник – это такая рабочая условность, потому что с равной долей вероятности листки могли оказаться частью мемуарного сочинения. Сочинял, кстати, крайне странный персонаж.
Если атрибутировать письма сиру Филиппу де Лалену, то «дневник» принадлежит какому-то его спутнику, соратнику, а может быть, и слуге. Написано было кондовой простонародной лингвой, но чрезвычайно тщательно – так бывает, если язык не родной, но достаточно хорошо изучен, чтобы не допускать ошибок типа «моя твоя не понимай». При этом автор то и дело сбивался в точке повествования с третьего лица на первое и наоборот в совершенно произвольной, непредсказуемой форме.
С письмами была полная ясность: депеша от имени Карла Смелого, видимо, предназначенная писцу для перебеливания, и еще одна, датированная августом 1465 года. Именно этот автограф вызвал у Ровного сомнения в подлинности.
Пришлось забраться в домашнюю библиотеку, сдуть пыль с неподражаемого де Коммина и убедиться, что «сказанный сеньор де Лален» погиб в сражении при Монлери больше чем за месяц до написания депеши. Это если верить де Коммину, а отчего, собственно, не верить? Авторитетный источник, неколебимый, как гора Монблан.
Потом пришлось сдуть пыль с собственных мозгов, так и скрипевших от позабытых усилий.
Жизнеописание брата – примадонны турнирного дела, доброго рыцаря Жака де Лалена – помогло еще меньше, так как о семье упоминалось очень скупо.
Неплохо было пролистнуть книгу Оливье де Ла Марша, который, насколько помнил Ровный, знал такие подробности о жизни бургундского двора, что страшно делается. Но старика Оливье у него не было.
– В любом случае Ла Марш нужен, – сказал Ровный вслух, чтобы рассеять пыльный архивный континуум, образовавшийся в комнате. – Где его взять? На русский не переведен из-за идеалистической перегруженности, так мало ценившейся в советские годы. А закажу-ка я его на «Амазоне»!
Amazon.com сыскал Оливье на удивление быстро. Модная и, чего греха таить, удобная сделка свершилась в виртуальном пространстве.
Пыльный континуум рассеиваться не желал, и Ровный отправился на кухню для приготовления кофе, что удалось вполне. Втянув в ноздри кусок арабского аромата, он прогромыхал чем-то в буфете, и кофе смешался с коньяком.
Часы на холодильнике домигали до полуночи, а Ровный набрал номер Петухова. Спустя три гудка на той стороне раздался голос:
– Кира, ты охренел? Сейчас меня жена поимеет – ночь на дворе!
– Петухов, не дави на жалость – ты сейчас сидишь в своем кабинете и смотришь порнуху, а спать завалишься часа через три! Я ж тебе по делу звоню.
– Ничего не порнуху, договаривался с американцем через скайп, вот и не сплю, – обиделся Петухов. – А ты чего там? Бухаешь?
– Кофе пью, – о коньяке Ровный умолчал.
– А… а то глотки такие, будто бухаешь! Что там у тебя?
– Сержант, ты, конечно, хамло необразованное, но в деле сечешь! Бумаги подлинные. И если удастся доказать, что товарищ Лален-младший был жив и здоров через месяц после собственной смерти… – тут Ровный вкусно зачмокал. – Брат, даже одну эту записку можно смело выставлять на «Сотбис». Или на «Кристи». Никаких заштатных аукционов! Быстро понюхай воздух!
Трубка засопела.
– Не понял? – судя по голосу, Петухов собирался обидеться на «хамло» да еще и «необразованное».
– Пахнет сотнями тысяч! Сотнями тысяч в конвертируемой валюте!
– Ну прям и сотнями…
– А как же! Ведь там целый архив, я верно тебя понимаю?
– Я думал, тысяч двадцать за него отхватить… – ошарашенно промолвил Петухов.
– Так что с архивом? Ты его видел?
– Ну там это… Видел, конечно! Ну… какие-то разрозненные бумажки, штук десять или двенадцать. Все такие же старые, с тарабарщиной. И отдельно сброшюрованная тетрадь – каждый лист в отдельном файле, но ни обложки, ничего такого. Я так понял, что наркоманов дед считал ее отдельной книгой. Аккуратный был мужик, не то что этот упырь.
– Упырь – это наш наркуша? – уточнил Ровный.
– Нет, блин, я! Не тупи!
– Так время-то позднее. Вот кофеем заправляюсь для взбодрения мозгов, – антиквар помолчал, чтобы быстро выпалить: – Готов посильно вложиться деньгами. Пятьдесят на пятьдесят, договорились?
– Зато я не готов, – буркнул сержант. – Будешь у меня экспертом, понял?
– Тридцать процентов.
– Ты охренел, в натуре! Десять.
– Тридцать пять, – Ровный проявлял безграничную наглость.
– Во ты ваще! Наха-а-ал! Двенадцать.
Кирилл откашлялся, отставил кружку с кофе, чтобы не мешала.
– Артем! Имей совесть! Ты заплатишь наркоту максимум тысяч пять, пусть шесть – на большее у него фантазии не хватит! А в перспективе у тебя минимум двести тысяч! Евро! Без меня ты эти бумажки все равно выгодно не продашь, и ты мне при такой рентабельности пытаешься втюхать двенадцать процентов?! Имей совесть!
– Не-е-ет! – зарычал Петухов. – Это ты имей совесть! Мало того что я торчка нашел и развел! Так я уже вторую неделю к нему хожу с конвертами герыча на кармане! Понимаешь! Я! С «хмурым» в потных ладошках! Мимо всех ментов! Во мне радость в сорок два года залететь с героином, будто сраный барыга! И я тебе после этого отдам треть?! Ты совсем охренел, Пеневежневецких!
– Двадцать пять, – ответил антиквар, даже не обратив внимания на свою собственную прочно забытую фамилию.
– Пятнадцать.
– Двадцать пять процентов! Четверть! И считай, что я делаю большое одолжение по дружбе!
– Не больше двадцати.
– Двадцать пять, Артем. Подумай об аукционе, о двухстах тысячах и кончай сношать мне мозг.
– Ладно… уломал, блин, скотина жадная. Жду тебя завтра… нет, завтра у меня переговоры на весь день… Послезавтра. Я за тобой заеду, заберем бумажки и к наркуше – охмурять. Ты когда, вообще, машину купишь?
– Когда уеду в деревню. Не вижу смысла жить в пробках за свои деньги.
– Все с тобой ясно, Кира, – Петухов еще посопел, страдая от собственной сговорчивости. – Спать давай.
И положил трубку.
А Ровный расправился с остывшим кофе, в котором коньяк ощущался куда сильнее базового напитка, и ушел в единственную комнату квартиры. Она же кабинет, она же спальня. На единственном столе мультифункционального помещения его дожидались путевые записи, а может, и мемуары.
Вот на их счет было больше непонятностей, нежели понятностей.
Кто автор?
Явно дворянин, или клирик, или буржуа из верхнего слоя – ожидать мемуаров от кого-то иного, да еще в пятнадцатом веке, когда жанр только рождался в муках, было глупо.
Тем не менее если и мемуары, то очень странные. Весь классический канон псу под хвост! Ни тебе жизнеописания в молодые годы, хотя бы кратко, ни тебе повествования от первого лица, даже элементарно представиться не изволил! Изложение настолько нетипичное, что описанные события, пожалуй, можно реконструировать и пересказать своими словами, но соотнести с любым из известных исторических памятников выйдет вряд ли.
И ведь, пожалуй, не дневник.
Дневник подчиняется датам – это закон. Мол, сегодня, такого числа, постановил подняться в шесть утра, скакать на коне до завтрака, после написать письмо матушке, отобедав, нести вечное и доброе, а под вечер дать денщику Степану пятиалтынный. Проснулся к обеду, до вечера нес какую-то чушь, а денщику Степану дал в морду. Или как там у классика?
Хотя именно такой разудалый стиль больше всего подходит к запискам. При этом дяденька в курсе политики, в курсе придворной жизни, да еще в таких подробностях, что сомнения в сторону – все видел. Или не все, но достаточно много.
Интересная выходит история!
Кирилл уставился в пламенеющий «Гуглом» монитор компьютера, поерзал в кресле, констатировав, что трусы пропитались потом до состояния липкой ленты – такие стояли в Питере погоды.
– Глобальное потепление в действии – не соврали, сволочи… – пробормотал он, разумея Гринпис.
Пришлось вставать, брести в душ и переодеваться.
Пока нежился под струями, пока прыгал на ножке, силясь прицелиться в штанину шорт, Ровный мусолил с разных сторон мысль, что депеши де Лалена и условные мемуары, несомненно, связаны.
Повествование не имело начала – отсутствовали первые страницы. Но смысл и география говорили, что неизвестный героический дед, вывезший бумаги из Третьего рейха, вывез их не просто так, а как единый комплекс, представляющий ценность именно своим единством. Разбирался, ой разбирался старик в теме!
Как минимум знал старофранцузский. Много в стране победителей было таких знающих? Можно не гадать – единицы.