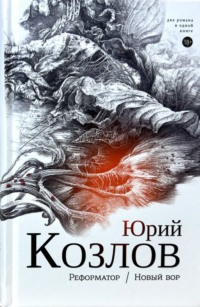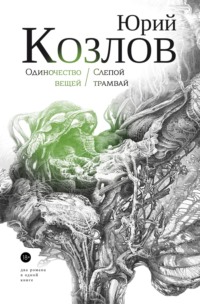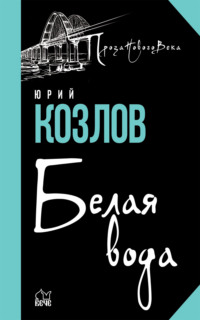Полная версия
Колодец пророков
Глядя в окно на стылый (за городом в тот год почему-то было гораздо прохладнее, чем в напоминающей Сочи Москве) позднеосенний подмосковный пейзаж, на готовящееся заледенеть-застеклиться озеро, майор Пухов подумал, что великий Ницше был не вполне прав, объясняя движение истории наличием в людях воли к власти. В России все определилось не волей к власти, а волей власти. Как объяснил Пухову в транспортном самолете – глухой беззвездной ночью команда майора летела тогда в Баку – толстый, лысый, похожий на мешок с мукой генерал с аристократической фамилией Толстой, власть, давшая народу губительную волю, тем самым сделала народу – на века! – прививку против извечной русской болезни – анархии. Сейчас надо потерпеть, сказал генерал, дать время власти отвердеть: сначала в пределах кремлевских стен, затем – Садового кольца, затем – Московской кольцевой автодороги и – дальше, дальше, дальше. «Власть в России сейчас меняет сущность, как змея шкуру, – сказал генерал, – другого пути, кроме как каменно отвердеть, у нее нет. Я сам, – рванул на горле камуфляж генерал Толстой, – нахожусь на грани самоубийства. Имперская тоска сжигает душу. Но надо преступить…»
Пухову запомнились слова: «Имперская тоска сжигает душу…» Если уподобить душу листу бумаги, то края листа занялись ползучим пламенем у майора в начале восьмидесятых на границе Афганистана и Пакистана, где его команда вырезала караваны белуджей и уйгуров, но пропускала караваны узбеков и таджиков, приводя тем самым племена в состояние взаимного недоверия и повышенной боевой готовности, что, в свою очередь, делало границу непредсказуемой и частично непроницаемой для направляемой со всех концов (Пухову даже попадались противопехотные мины с клеймом «Сделано в Бенине») афганцам военной помощи. Майор не был сентиментальным человеком, но известное изречение «Величие покоится на крови» – красивое и вдохновляющее в обитых мореным дубом кабинетах Минобороны в Москве – здесь, посреди разрушенных кишлаков, растерзанных людей в камуфляже и в чалмах, овец и верблюдов, представлялось сродни знаменитому «Arbeit macht frie» при входе в газовую камеру.
Быстрее, чем у майора Пухова, огонь имперской тоски (видимо, дрова были суше) сжигал душу начальника разведки подразделения капитана Сергеева. «На этом не может покоиться величие, – помнится, однажды заметил Пухов, окидывая взглядом оставляемый их подразделением – в духе Сальвадора Дали – пейзаж в пустыне. – На этом не может покоиться ничего достойного». – «Кое-что может», – неожиданно возразил ему обычно молчаливый и не по званию сосредоточенный капитан Сергеев. «Что именно?» – поинтересовался Пухов. «Все это, – кивнул капитан Сергеев на песок, кровь, слетающихся клевать кровоточащие тела стервятников – они были похожи на странствующих дервишей с язвами на лицах, в черном дранье, – придет к нам. И очень скоро. И больше, ты прав, ничего».
Имперская тоска окончательно испепелила, наверное, лист души майора Пухова в Степанакерте, в Гяндже, в Тбилиси, в Литве – в Вильнюсе и на самочинных литовских таможнях. Прежняя афганская тоска, в сравнении с тоской прибалтийской, была, в общем-то, тоской почти сладкой, ибо в ней не было примеси того, что делает тоску непереносимой для мужчины, а именно – предательства.
Впервые и сразу в глазах у многих уважаемых им прежде людей Пухов увидел библейскую «тоску предателя» по возвращении из медвежьего угла Литвы – Медининкай, – где кто-то надоумил литовцев (или они сами додумались) поставить дощатую, похожую на большой дачный сортир, таможню. Тогда-то майор окончательно понял, что, когда империю предают те, кто должен по долгу службы защищать (империю и тех, кто исполняет их приказы), ее уже не спасет ничего. В тогдашней Советской армии не нашлось командира, готового взять на себя, возможно, невинную, но пролитую во имя империи кровь.
«Если нам хотят вернуть чужую кровь, которую мы пролили по их приказу, – развил перед ребятами вечером в сауне тревожную мысль Пухов, – наша работа теряет смысл и моральное обоснование. Есть неписаный закон: исполнитель отвечает только за неисполнение или плохое исполнение приказа, а не за его смысл и последствия. Мы выполнили приказ. Но нас за это хотят не наградить, а отдать под трибунал. Я лично не собираюсь под трибунал. Я выхожу из игры. У каждого своя голова на плечах. Думайте. Я их не боюсь, но и никого из вас я больше прикрыть не могу. Отныне каждый решает сам».
Утром он честно подал в штаб ВДВ рапорт об отставке, хотя и мелькнула мыслишка запечатать его в конверт да и отдать знакомой проводнице, чтобы отправила по почте, скажем, из Уссурийска. Но майор полагал, что пока еще инициатива за ним.
Пухов понял, что ошибался насчет инициативы, когда его – профессионала не из последних – мгновенно и совершенно незаметно взяли прямо на выходе из здания штаба ВДВ. Майор всегда искренне восхищался (хотя сегодня был не тот случай) чужим, в особенности превосходящим его собственный, профессионализмом. То, что на каждую хитрую… неизменно отыскивался… с винтом, сообщало жизни прекрасную тайну, свидетельствовало, что в ней всегда есть место не только для подвига, но и для неожиданностей, не позволяло излишне расслабляться, утомляться собственным предвидением.
Майор не сомневался, что его кончат прямо в джипе «шевроле» со специально, видимо, для этой цели затемненными стеклами. «Хоть заройте поглубже, – превозмогая гордость, обратился он к убийцам, – чтобы не таскали по моргам да по прозекторским». – «Спешишь, парень, – усмехнулся в ответ один, – пока что в гости едешь».
«В эти гости я всегда успею», – подумал Пухов, нащупывая разрезавшую не одно чужое горло струну под манжетом рубашки, но сидевший рядом погрозил удивительно прямым, неестественным каким-то, нечеловеческим пальцем: «Сиди спокойно. Мы же тебя не обижаем». Пухов понял, что один тычок этого пальца проткнет ему гортань, как сучок падающую спелую грушу, и еще понял, что, если бы эти ребята действительно хотели его убить, они бы убили его давно (как только получили приказ) и так, что он (и вообще никто) бы этого не заметил.
Майору Пухову казалось, что он неплохо знает Лубянку, но они подкатили к какому-то неизвестному ему внутреннему подъезду. Пухова повезли наверх на допотопном – сталинских, не иначе, времен – неухоженном, с надраенной медью, в зеркалах, с черным телефонным аппаратом «Сименс-Шуккерт» на столике – лифте. Майор догадывался, что Лубянка с въевшимся в ее стены, коридоры, бетонные и деревянные перекрытия и потолки духом смерти и несбывшихся надежд хранит немало тайн. Но он знал, какой силы удары наносились по ней в последнее время. Если Лубянка и была одним из китов, на которых когда-то, как на сваях, стояло государство, то сейчас этот пронзенный многими гарпунами многих капитанов Ахавов белый кит Моби Дик исходил последним кровавым фонтаном.
Выйдя с сопровождающими из лифта в нескончаемый, как ему показалось, коридор, Пухов ощутил себя библейским Ионой во чреве Левиафана, героем Жюля Верна (майор не помнил, как того звали), оказавшимся в пещере на подводном корабле «Наутилус», где отдавал Богу душу капитан Немо.
Однако встретивший его в одном из кабинетов пожилой, круглый, похожий на мешок с мукой генерал (Пухов тогда не был лично знаком с генералом Толстым, но был, как говорится, наслышан), похоже, совершенно не собирался отдавать Богу душу. Он, как черт из табакерки, выскочил в кабинет из какой-то боковой дверцы в дурном каком-то одеянии: в тельняшке, широченных белоснежных то ли мусульманских штанах, то ли русских подштанниках, в наброшенной поверх тельняшки кожаной куртке с неуместной эмблемой «U.S. Air Force». Лысая розовая голова генерала лоснилась. Пухов был готов поклясться, что он только что из парилки. Майор вдруг подумал, что Бог брезгует душой генерала.
– Величие Грибоедова недооценивается. – Генерал пригласил Пухова присесть на жесткий стул перед своим огромным, черным, как ночь или смерть, столищем. – Так же как величие, скажем, Иосифа Бродского определенно переоценивается. Шел в комнату, попал в другую, ведь так, майор? Все, что отныне будет происходить с тобой, будет иллюстрацией золотого, но горького правила – горе от ума. Не классовая борьба, майор, а горе от ума – движущая сила истории.
– Почему только отныне? – поинтересовался Пухов. – Разве раньше было иначе?
– Раньше был приказ, майор, – ответил генерал. – Горе от приказа – естественная форма существования российского государства, в особенности же российских вооруженных сил. Горе от ума – их погибель.
Пухов не ухватил сути генеральской мысли. Собственные его мысли как-то вдруг растерялись, заметались во времени и пространстве. К примеру, ему не давал покоя рисованный портрет в застекленной рамке на стене за спиной у генерала. Майор льстил себе, что знает (главным образом, естественно, по фотографиям) всех руководителей Лубянки. Но вот этого совершенно точно не знал. Пухову доводилось общаться с людьми, умеющими мыслить системно, как компьютеры, и сразу по многим направлениям. Себя майор к их числу не относил. Слишком много времени и сил в жизни было потрачено на тренировку тела. Иногда он почти физически ощущал, как мысль, бесконечно упрощаясь, меняя сущность, поселяется в его бицепсах и мышцах. Автоматически думало и действовало тело майора, но никак не его разум. Пухову открылось, что невозможно быть одновременно очень умным и очень физически сильным.
Ему показалось, что где-то он видел если и не самого человека с застекленного карандашного портрета, то кого-то очень на него похожего. Вот только кто это был, майор не мог вспомнить. Кажется, какой-то генерал.
– Здесь что? – посмотрел по сторонам Пухов. – Музей?
– Пожалуй что музей, – согласился генерал. – В свое время это крыло запечатали, как секретный конверт, замуровали. Почитай, сорок с лишним лет никто не совался. Думаешь, следует открыть для любопытствующей публики? Лаборатория сталинских ужасов! Тайный кабинет Лаврентия Берии открывает двери! Думаешь, повалит народец, а?
– Кто это? – кивнул майор на не дававший ему покоя карандашный портрет под стеклом. – Ягода?
– Это? – тоже обернулся, как будто впервые увидел портрет, генерал. – Это… Должен был стать министром госбезопасности после Берии. Не захотел. А стал бы – у нас бы сейчас была совсем другая страна. Совсем, совсем другая… – повторил он мечтательно и с долей мазохизма.
Майор подумал, что советский генерал Гоголь из фильмов про Джеймса Бонда – тонкий намек на генерала Толстого.
В былые времена майор получал четкие недвусмысленные приказы и отчитывался непосредственно перед отдавшим приказ вышестоящим командиром, который награждал за хорошую работу и наказывал за плохую. Государство, таким образом, односторонне, скупо, но конкретно общалось с майором через вышестоящего командира. Круг замыкался. Все было ясно и понятно. Когда круг разомкнулся и военная машина заскрежетала, заискрила, лишенная управления, силовые линии в ней смешались, усложнились, перепутались, превратились в омерзительную, каждый раз отгадываемую пo-новой загадку. Люди, которые действительно что-то решали, за которыми была сила и реальные материальные ресурсы, превратились в вымирающих динозавров. Они отнюдь не стремились открыто о себе заявлять, эти люди. После Тбилиси и Баку майор Пухов уже наверняка не знал, кто отдает приказы и кто оценивает их исполнение. Но все чаще невидимые силовые линии, по которым он был вынужден, как на роликах, скользить в силу особенности своей службы – иногда по касательной, иногда как бы параллельно и будто бы не впрямую, иногда же весомо, грубо, зримо, как сейчас, – выкатывали его на генерала Толстого. Никто доподлинно не знал, что это за генерал и чем конкретно он занимается. Но было совершенно очевидно, что объем его реальной власти значительно превышает объем власти, отмеренный генерал-лейтенанту Департамента федеральной безопасности (ДФБ), пусть даже на генерал-полковничьей должности. Одни говорили, что возглавляемое им двенадцатое управление занимается некими специальными, то ли из области парапсихологии, то ли просто психологии операциями. В мутной воде (тихом омуте) коллективного бессознательного русского народа будто бы ловят генерал Толстой и его люди свою рыбку. Другие – что будто бы он оказал неоценимые услуги (чуть ли не обеспечил с помощью этой самой парапсихологии вечную жизнь и, следовательно, вечную власть над Россией) нынешнему президенту, за что тот и поставил его чуть в стороне, но над всеми. Пухов, впрочем, в этом сильно сомневался. За неоценимые услуги не жаловали и в спокойные времена. В смутные же рассчитывались, как правило, быстро и почти всегда… головой в омут.
– Решил, сынок, соскочить с нашего летящего вперед паровоза? – сощурился на Пухова генерал.
«Сколько ему лет? – подумал майор. – Должно быть, никак не меньше восьмидесяти. Почему он без очков?»
Пухова удивили непривычные буквы, какими было набрано название лежащей на генеральском столе газеты – «Правда». Он посмотрел внимательнее: газета была от 28 июля… 2033 года. Это было совершенно невероятно, но именно такой год значился на уже почти забытой в России газете «Правда», остановленной президентским указом, если майор Пухов не ошибался, кажется, в мае 1998 года.
– Музей, – похлопал по газете ладонью генерал. – Ты не ответил на мой вопрос, сынок.
– Я бы не стал соскакивать, – пожал плечами Пухов, – если хотя бы приблизительно представлял себе маршрут и не сомневался, что машинист паровоза в здравом уме.
– Считай, что тебе повезло, майор, – сказал генерал. – Ты сейчас находишься в обществе человека, который пока еще может принимать решения, отдавать приказы и брать на себя ответственность.
– Возможно, – не стал спорить Пухов, – но я служу Родине, а не сильным людям. Хорошо, конечно, когда сильные люди олицетворяют собой Родину. Но сильные люди далеко не всегда олицетворяют собой Родину, товарищ генерал.
Он хотел добавить: «И вам это известно лучше, чем мне». Но промолчал.
Зачем, к примеру, нужно было помогать талышскому вождю со странным именем Шоша? Этот золотозубый, двухметрового роста Шоша, как определил по его наколкам Пухов, большую часть жизни провел в зоне. Руководил операцией по спутниковой связи, как установил позднее Пухов, легендарный генерал Толстой, а всю грязную работу, как водится, делали ребята Пухова. Да, Шоша с ходу захватил азербайджанский райцентр, но вместо того, чтобы провозгласить, как планировалось, независимую демократическую республику на самой границе с Турцией, послать телеграммы и ООН и ЮНЕСКО, он затеял в городе бессмысленную резню. «Он поднял свой флаг над зданием администрации», – доложил Пухов генерал-майору Худоногову (такой псевдоним выбрал себе генерал-лейтенант Толстой) по спутниковой связи.
Круг фонтана на площади перед зданием администрации к этому времени уже был забит трупами по самое бетонное горло. Фонтан тем не менее продолжал действовать. Красная вода выплескивалась из него, как вино из переполненной чаши. «Майор, ты выполнил задание, забудь о нем, немедленно возвращайся домой. Вас там не было» – такой приказ пришел по спутнику. Приказ «генерал-майора Худоногова» понравился Пухову своей ясностью и стопроцентным цинизмом. Это было пусть плохое, но твердое «что-то» посреди не плохого и не хорошего, похожего на вонючий кисель «ничто».
Посадив ребят в вертолет, майор остался. Ненужный риск. Чужая война.
Никто не собирался выплачивать ему сверхурочных, но Пухову (хоть это было в высшей степени нетипично для, как правило, бедноватого русского офицера-спецназовца начала девяностых) хотелось получить ответ на единственный вопрос: зачем?
Накрывшись тряпьем, Пухов наблюдал за развитием событий в городе с заброшенной голубятни. Он лежал, не двигаясь, вперившись в бинокль. Одичавшие голуби перестали обращать на него внимание, а один даже нагадил майору на нос. Это была хорошая примета – верный знак, что Пухову удастся выбраться отсюда живым. Хотя, с другой стороны, только какой-то крайне презираемый Господом человек сумел бы проваляться несколько часов на полу голубятни так, чтобы ни одна божья птица на него не нагадила.
Тогдашнему азербайджанскому руководству, занятому куда более масштабной и важной войной в Карабахе, естественно, было не до Шоши, отщипнувшего от их страны крохотный (в сравнении с теми, какие отщипывали армяне) кусочек территории. Талышскому вождю оставалось всего ничего: закрыть два высокогорных перевала (для этого требовались от силы десять человек и две гаубицы) и сидеть, выжидая, до следующей весны в своем независимом демократическом государстве. В распоряжении Шоши было гораздо больше чем десять человек. Что же касается гаубиц, то майор Пухов лично доставил их ему во чреве грузового самолета МЧС под видом продовольствия для пострадавшего от землетрясения населения в долине пограничной реки.
Мятеж подавили турки, которых, честно говоря, майор Пухов не принимал во внимание, настолько въелась в голову атавистическая, как оказалось, уверенность насчет неприкосновенности бывших советских границ. Он бывал здесь в прежние годы и помнил, как турки не приближались к молоткастым-серпастым пограничным столбам ближе чем на сто метров.
Они спокойно перешли границу силами примерно мотострелкового полка. Через два часа с новым независимым государством было покончено. Азербоны, похоже, до сих пор ничего не знали про чуть было не возникшее у них в юго-западном углу независимое демократическое государство талышской нации во главе с президентом по имени (или фамилии?) Шоша.
Этот Шоша оказался парнем, как выражаются американцы, со стальными яйцами. Он, как и полагалось крутому террористу (борцу за свободу), засел в самом крепком в райцентре (местном отделении национального банка) здании, Объявил находившихся там кассирш, бухгалтерш и охранников заложниками, проревел в мегафон туркам свои условия, на которые тем, естественно, было плевать с высокого минарета. Шоша в прошлом имел какие-то дела с курдами, турки же в те годы крепко недолюбливали курдов.
Шоша отстреливался до последнего. Когда боеприпасы подошли к концу, он заставил подняться на бетонный забор крохотную (вряд ли она еще ходила в школу) девочку-заложницу. В белом платьице с широко открытыми от ужаса глазами она показалась смотрящему в бинокль из голубятни майору Пухову ангелом. Шоша застрелил ее на глазах у турок. После чего еще раз потребовал для себя и заложников автобус. Турки между тем, не торопясь, навели через пограничную речку понтонный мост, перегнали на сопредельную территорию танк. Он и въехал, как незваный гость, прямо в дом к Шоше и заложникам. Окровавленный, с выбитыми зубами, что-то крича черной воронкой рта, Шоша пошел на танк с голыми руками. Его так и пристрелили – выстрелом в голову, – вцепившегося мертвой хваткой в железную гусеницу. Потом выбравшийся из танка турок огромным зазубренным с одной стороны ножом отрезал голову Шоши, брезгливо поднял за волосы и ударом ноги, как футбольный мяч, отправил ее в пламенеющую у фонтана маковую клумбу.
Сейчас у майора Пухова была возможность спросить у генерала Толстого: «Зачем?» Но он молчал, потому что на каждое его «зачем» у генерала отыскалось бы по десять «затем». Как простых: необходимо было определить степень готовности турок вмешиваться во внутренние дела азербонов. Так и сложных: спецоперации – это своего рода тончайшее нейрохирургическое вмешательство, призванное не столько выполнить поставленную задачу, сколько сканировать во всей своей противоречивости сложившуюся в данном регионе военно-политическую ситуацию, определить намерения и степень готовности рисковать основных геополитических субъектов; спецоперации редко приводят к однозначным результатам; результаты спецопераций становятся очевидными (естественно, не для всех) только по прошествии времени в случае принятий на основе их всестороннего анализа правильных государственных решений.
«Спецоперации, – вдруг подумал майор Пухов, – сродни вживлению в организм раковых клеток. Тактика (клинические симптомы) у раковых клеток может быть самая разная и неожиданная, но стратегия у них всегда одна-единственная – смерть».
– У тебя легкая, летящая фамилия, майор, – задумчиво посмотрел на него генерал. – Но для солидной мирной жизни ты бесполезен, если не сказать – опасен. Крылья у тебя вырастают только на войне.
– Крылья Икара? – спросил Пухов.
– Икара? – удивился генерал Толстой. – Полет Икара, сынок, можно трактовать как угодно. Как вызов богам. Как манию величия. Как коммерческий риск. Как бесконечную усталость. Наконец, как красивое самоубийство. Выбирай, что тебе нравится.
Пухов молчал. Это была правда, в которой он сам себе не хотел признаваться. Он утешал себя тем, что у него просто не было случая, как следует узнать мирную жизнь в постсоветской России. Он, как соринка на поверхности завихряющейся вооруженной (если можно таковую вообразить) воды, все эти годы перетекал из одной локальной войны в другую. Ему казалось, что жизнь России – война и тлен, но оказалось, что мир и деньги. Вполне возможно, вновь открывшаяся жизнь придется ему по сердцу.
Майор Пухов бестрепетно смотрел на генерала Толстого, ибо отсутствовал на удилище генерала крючок, на который тот мог в данный момент подцепить майора.
Разве что смерть?
Собственная жизнь, впрочем, с некоторых пор не казалась майору безусловной и абсолютной ценностью. Немало людей разных национальностей и вероисповеданий умирали на его глазах. И каждый раз майор как будто проделывал вместе с ними этот, когда простой и легкий, когда сложный и тяжелый, путь. «Да, пока я продаю билеты на станции, – подумал Пухов, – но, видит Бог, я в любой момент готов сам поехать на этом поезде».
– Мы могли бы пуститься в долгую дискуссию о настоящем и будущем российского государства, – усмехнулся генерал Толстой, – поговорить на вечные темы – что делать и кто виноват. Но я опускаю центральную, так сказать, идеологическую часть беседы и сразу перехожу к сути. Суть ведь не в том, майор, что страна предана и разворована, что все тонет в измене и фарисействе, что жизнь прожить – не поле перейти и так далее. Суть в том, майор, что я хочу, чтобы ты поработал во благо России под моим началом, а ты этого почему-то не хочешь. Не хочешь, – продолжил генерал, властным жестом останавливая возражения Пухова, – но ждешь, какие я приведу доказательства своей любви к Родине, а также на какой крючок я буду тебя поддевать, ведь так, майор?
Пухов молчал, размышляя над тем, закончил ли уже генерал париться в баньке или сделал ради беседы с ним, майором Пуховым, перерыв? Если он собирался решить судьбу (майора походя, между заходами в парную на опереточном каком-то, бутафорском (как будто собирались фильм снимать) этаже Лубянки, грош цена была майору Пухову, а также всему тому, о чем он так много и безысходно думал в последнее время.
– Ты очень умен для командира подразделения командос, – разъяснил невысказанное недоумение майора Пухова генерал Толстой, – но, извини, системное мышление – не твоя стихия. Этому не учатся, майор. Это или есть, или нет. Я знавал неграмотных негров и индейцев, которые мыслили системно, и академиков, и генеральных секретарей ЦК КПСС, которые были этого напрочь лишены. Ты сразу допустил две ошибки, майор. Во-первых, пошел не по той дороге. Во-вторых, пошел в тот лес, где не растут деревья, то есть не бывает дров. Стало быть, ты пошел не в лес и не по дрова, ведь так, майор?
Пухов с тоской подумал, что генерал прав. Хотя и не знал, в чем именно прав. Подобное чувство он, помнится, испытывал в школе на контрольных по математике. Решал задачу и казалось – правильно решает, но вдруг закрадывалось сомнение, и Пухов понимал, что нет, не правильно, совершенно не правильно, а главное, уже нет времени, чтобы решить правильно. Страх отсутствия времени был сильнее страха допущенной ошибки. «Что он имеет в виду под словом “дрова”?» – подумал майор.
– Какие ошибки, товарищ генерал? – спросил он. – Я все время молчал.
Ты почему-то решил, что я буду что-то тебе объяснять, выворачивать наизнанку свою или твою душу, одним словом, то ли тебя убеждать, то ли вербовать, то ли покупать. Ты решил, что я пригласил тебя сюда для беседы. То есть что ты сможешь отсюда выйти так, а сможешь – эдак. Что я стану тратить на тебя свое время, не будучи уверенным в конечном исходе разговора. Пухов-Пухов, – укоризненно покачал круглой ушастой в одуванчиковой кайме седых волос головой генерал, – неужели я похож на человека, не дорожащего своим и твоим временем?
По роду своих занятий майору порой, при весьма специфических обстоятельствах, приходилось встречаться с самыми разными людьми на просторах страны, которая когда-то звалась СССР. Он никак не мог взять в толк, отчего среди тех, кто стремился во что бы то ни стало разрушить СССР, а сейчас Россию, было так много сумасшедших? Но не менее удивительным казалось ему то, что столь же высок процент сумасшедших был среди тех, кто во что бы то ни стало стремился сохранить, возродить, воссоздать Россию, а там, чем черт не шутит, и СССР.