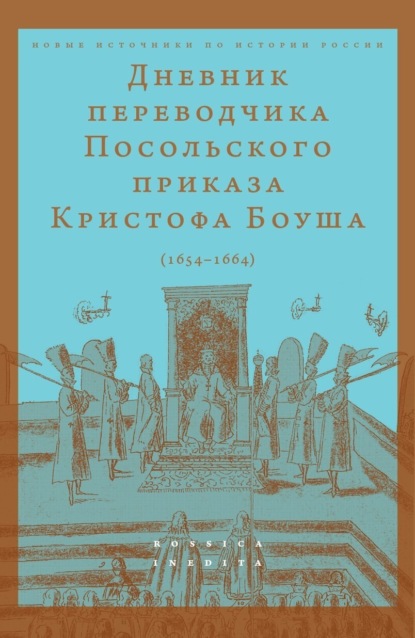Полная версия
Дневник переводчика Посольского приказа Кристофа Боуша (1654-1664). Перевод, комментарии, немецкий оригинал
Первую часть своего труда, занявшую в чистовой копии 48 листов, Лоттер завершил в конце октября 1736 г.[22] К этому тексту прилагались родословные древа последних Рюриковичей и первых Романовых, выполненные Байером и включенные впоследствии в беловую рукопись[23]. Зимой 1736/37 г. в ход работ, однако, вмешалась болезнь историографа, вызванная, по официальной версии, скверным петербургским климатом, а по отзывам современников, невоздержанностью по части женского пола[24]. 8 февраля 1737 г. врачи еще обнадеживали Лоттера в том, что весной он сможет вернуться к работе[25], но уже 1 апреля 1737 г. историк скончался[26].
Еще при жизни Лоттера, в феврале-марте 1737 г., его черновики и подготовительные материалы, включая «шесть письменных известий о России (sechs Stück schriftliche Nachrichten von Russland)», передали Байеру как продолжателю труда умирающего историка[27]. Байер, хотя и жаловался на недостаток источников, завершил свою работу к осени 1737 г., представив Академии 4 ноября беловую рукопись «Жизни и деяний…» – вероятно, ту самую, которой мы располагаем сегодня[28]. Она, однако, так и не была опубликована. Возможно, одной из причин этого стала скоропостижная кончина Байера 10 февраля 1738 г.[29] Продолжателей у историка не нашлось. Сложно сказать, осталось ли руководство Академии недовольно результатами изысканий Лоттера и Байера, или же в правительстве вовсе потеряли интерес к этому историческому сюжету.
«Жизнь и деяния…» оказались прочно забыты и за последующие без малого три столетия удостоились разве что кратких упоминаний в общих работах по истории Академии. Столь же незавидной была и судьба использованных Лоттером и Байером материалов. Списки, сделанные по заказу Академии, в том числе сохранившаяся до сегодняшнего дня рукопись «Дневника», оказались в академическом архиве. Оригиналы же возвратили владельцам или, если последние не высказывали заинтересованности в них, выставили на продажу[30]. Вероятно, именно тогда стены Академии покинул и был навсегда утрачен протограф «Дневника».
«Дневник» в поисках автора
Кто же был автором «Дневника»? В самом источнике нет прямых указаний на его создателя. Более того, очевидным кажется желание автора скрыть собственное имя. Как уже говорилось, он полностью сконцентрирован на политических событиях и не сообщает никаких подробностей о себе лично. Местоимение «я» употреблено в тексте лишь два раза – в исполненном драматического накала повествовании о голоде в Белоруссии в 1657 г. (л. 49) и в совершенно нейтральном по тону описании въезда английского посла в Москву в 1664 г. (л. 137 об.). Два этих случая столь несхожи и по предмету, и по тону рассказа, что объяснить эти неожиданные переходы к повествованию от первого лица чем-либо, кроме случайных оговорок, едва ли возможно.
Примечательно и использование в «Дневнике» местоимения «мы». Хотя неприязнь автора к «московитам» очевидна, во всех случаях выражения «мы», «наши» или «наша сторона» употребляются в тексте в отношении московских дипломатов и, реже, подданных русского государя вообще. Вместе с тем, много говоря об иноземцах на русской службе, автор почти никогда не причисляет себя к ним. Единственное исключение вновь приходится на одно из самых эмоционально насыщенных мест «Дневника» – рассказ об избавлении от тягот русского плена некоей польской девицы Полянской, которой помогали «мы», т. е. иноземцы, к коим автор, очевидно, причисляет себя (л. 79–79 об.).
Учитывая скудость подобных примеров, а также принимая во внимание видимое нежелание автора раскрывать свое инкогнито, исследователю приходится полагаться на косвенные соображения. Соединение в «Дневнике» глубоких знаний о русском государстве и его повседневной дипломатической практике с неприязнью к его жителям и симпатией к полякам заставляет подозревать в авторе подданного Польской короны, волею обстоятельств оказавшегося на службе в Москве. Владение, причем, вероятно, письменное, несколькими иностранными языками указывает на переводчика Посольского приказа, тем более что многие из них попадали на службу путем плена и, вероятно, питали сложные чувства к своей новой родине. Установить среди них автора «Дневника» помогает то, что мы можем с известной долей уверенности проследить его итинерарий. При внимательном чтении «Дневника» бросается в глаза, что в те месяцы, когда внимание автора концентрируется на ходе отдельных посольских съездов с поляками и шведами, проходивших вдали от столицы, сведения о приемах и переговорах в Москве пропадают из текста, а замечания общеполитического характера становятся отрывочными и касаются только самых значимых событий. Естественно предположить, что автор сам ездил на описанные им переговоры, покидая на это время Москву. Набор подобных поездок для каждого из приказных переводчиков хорошо известен, и простое сопоставление их послужных списков с «Дневником» может с большой долей вероятности указать на его создателя.
Первые читатели «Дневника», познакомившиеся с ним в 1730-х годах, не могли пойти предложенным путем, поскольку документы Посольского приказа оставались тогда неразобранными. Академики справедливо искали автора текста среди немногих переводчиков Посольского приказа, упомянутых в тексте в третьем лице. Наиболее подходящей кандидатурой им казался некий «Григорий Колерцкий», названный в «Дневнике» среди членов русской делегации на посольском съезде под Вильной в 1656 г. (л. 23). В маргиналиях к «Жизни и деяниям» он упоминается как автор «Дневника» несколько раз. Скорее всего, выбор Лоттера и Байера остановился на «Колерцком», поскольку два других фигурирующих в тексте переводчика с польскими или западнорусскими фамилиями – Людвиг (Степан) Ширецкий и Ян (Иван) Булак – были, по сообщению самого источника, сосланы в январе 1664 г. в Казань и не могли стать свидетелями событий, описанных на последних страницах «Дневника» (л. 136)[31].
Даже поверхностного знакомства со списками переводчиков, служивших в Посольском приказе в 1650–1660-х годах, достаточно, однако, чтобы убедиться в отсутствии среди них человека по имени Григорий Колерцкий. Само это имя в использованном в «Дневнике» написании звучит неестественно и на польском, и на русском языках. Как уже говорилось, ошибки в написании русских и польских имен, фамилий и названий иногда встречаются в тексте, вероятно, по вине переписчиков. Казалось разумным отождествить Колерцкого с Григорием Колчицким, который действительно служил в Посольском приказе переводчиком польского, латинского и белорусского языков с 1655 г. и принимал участие в подробно описанном в «Дневнике» Виленском съезде 1656 г.[32] Уже П.П. Пекарский, основываясь на заметках величайшего из академических историков XVIII в. Герхарда Фридриха Миллера, прямо именовал «Дневник» «рукописью Колчицкого»[33].
Слишком многое, однако, не позволяет считать Колчицкого автором «Дневника». Во-первых, он происходил из Киева и был, очевидно, православным по рождению. «Дневник» же не обнаруживает особенного интереса к малороссийским делам, а православие оставалось для его автора чужой верой. Во-вторых, Колчицкий оказался в Москве уже в 1651/52 гг. по приглашению своего брата Степана, также переводчика Посольского приказа[34]. Его решение о переезде в Россию носило, насколько можно судить, добровольный характер и не было связано с пленом и иными трагическими обстоятельствами, наложившими отпечаток на автора «Дневника». Наконец, ничто не указывает на то, что Колчицкий знал немецкий язык, переводил с него и тем более мог вести на нем тайный дневник.
Хотя Колчицкий участвовал в двух посольских съездах, описанных в «Дневнике», – под Вильной в 1656 г. и в Борисове в 1660 г. – в остальном его предполагаемый итинерарий не слишком хорошо согласуется с текстом. Так, вскоре после съезда в Борисове он отправился в качестве переводчика в полки князя Юрия Алексеевича Долгорукого и был ранен в битве на Басе 28 сентября 1660 г.[35] В «Дневнике» это сражение коротко упомянуто (л. 81), но об иных подробностях похода не сообщается. Летом и осенью 1663 г. Колчицкий ездил к запорожским казакам[36], в то время как «Дневник» за это время полон сообщениями из Москвы. Сведений об участии Колчицкого в посольских съездах с поляками в 1658, 1662 и 1664 гг. и тем более в пограничных переговорах со шведами в 1659 г. обнаружить не удалось. Между тем «Дневник», подробно освещающий эти съезды, почти не оставляет сомнений в том, что автор был их непосредственным участником.
Выход из этого противоречия легко найти. Можно предположить, что сотрудники Академии ошиблись, идентифицировав «Колерцкого» (Колчицкого) как автора «Дневника» из-за его польской фамилии. В том же перечислении участников Виленского съезда 1656 г. назван и другой переводчик Посольского приказа – Кристоф Боуш[37]. Именно он, как уже говорилось, видится идеальным претендентом на роль автора нашего источника. Биография Боуша, которую можно проследить, во всяком случае для периода после 1654 г., обнаруживает большое количество совпадений с предполагаемым жизненным путем автора «Дневника». К реконструкции этой биографии – в чем-то исключительной, а в чем-то, напротив, вполне типичной – нам и предстоит обратиться.
Кристоф Боуш: имя, язык, происхождение
Немецкое имя Боуша – Кристоф – известно исключительно из «Дневника». В документации Посольского приказа он упоминается под своим православным именем Василий, иногда также как «Василий Якимов сын Боуш»[38]. Его фамилию приказные подьячие часто записывали также как Бауш и, иногда, Баушев. Сам переводчик, однако, предпочитал вариант через «о». Это со всей очевидностью явствует не только из «Дневника», орфографию которого мог исказить переписчик, но и из двух несомненных русских автографов Боуша – расписки в получении прибавочного хлебного корма от 28 января 1662 г.[39] и крестоприводной записи об отсутствии у него поместий от 5 августа 1663 г.[40] Выписка «на пример», сделанная в Посольском приказе в 1673 г., называет Боуша курляндцем[41]. Иных указаний на его происхождение в русских источниках нет, поэтому в справочной литературе это свидетельство не ставится под сомнение. Единственный известный автограф Боуша, выполненный латиницей – поручная запись от 24 августа 1655 г. за некоего жителя Велижа Ивана (Яна) Казимирова сына Свидерского, перешедшего в царское подданство и православную веру, – воспроизводит, однако, полонизированную версию его имени (Wasilej Bohusz rękę przyłożył), переданную приказными подьячими в русском тексте документа как Богуш[42].
Начиная с первых лет работы в Посольском приказе и до своей смерти Боуш работал с тремя языками – немецким, польским и латынью. Несомненно, все эти языки, равно как и русский, автор «Дневника» знал превосходно. Кроме того, Боуш в какой-то степени владел распространенными в Балтийском регионе немецкими диалектами. Так, в феврале 1661 г. он экзаменовал взятого в плен под Дерптом Федора Лопова, который пытался поступить в Посольский приказ в толмачи цесарского (немецкого) языка, и установил, что тот знает лишь «лифляндский язык», т. е. один из местных немецких диалектов. Это, впрочем, не помешало Лопову получить искомое место, и в том же году начать в приказе успешную карьеру уже в качестве золотописца – мастера миниатюры и художественного оформления документов[43].
Записки иноземцев, сталкивавшихся с Боушем во время их пребывания в России, дают весьма противоречивые сведения относительно его происхождения, имени и владения языками. Рагузанский дворянин Франо Гундулич (Франческо Гондола), посетивший Россию в составе императорского посольства в 1655–1656 гг., писал о том, что переводчик на переговорах с царем в Полоцке 10 июля 1656 г., «какой-то новокрещеный курляндец, был небольшой знаток нашего языка»[44]. Почти нет сомненения, что речь в данном случае идет о Боуше. Остается, однако, неясным, имеется ли в виду под «нашим языком» разговорная «славянская» смесь из русского и южнославянских языков, на которой Гундулич, по собственным уверениям, имел беседы с царем[45], или все же немецкий, бывший одним из главных языков переговоров.
Версия о курляндском происхождении Боуша не является единственной. Андреас Роде, секретарь датского посла Ганса Ольделанда, побывавшего в Москве в 1658–1659 гг., свидетельствовал, что обязанности толмача при них исполнял «пленный и перекрещенный лифляндец Василий Багус»[46]. Сходную полонизированную форму – Богуш (Bogusz), знакомую нам по поручной расписке 1655 г., – использовал в своем дневнике и польский дипломат Стефан Франтишек Медекша, бывший на переговорах с русскими комиссарами в Смоленске летом 1662 г. Медекша, однако, называл переводчика скрывшим свое происхождение поляком, «присягнувшим на царское имя и окрещенным» (na imię carskie przysięglym i ochrezonym, ani znaé że Polak)[47]. Латинизированное написание Bauscius использовал и императорский посланник Августин фон Мейерберг, имевший дело с Боушем во время своего визита в Москву в 1661 г.[48] Наконец, Якоб Кетлер, герцог Курляндский, в грамоте главе Посольского приказа Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину от 2 января 1668 г., извещавшей о смерти Боуша в Митаве, называл его «благородным господином Василием Баушке (den wolgebohrnen Herrn Basilium Bauschke)»[49].
Итак, источники зафиксировали три версии происхождения Боуша (курляндец, лифляндец или поляк) и четыре различные формы его имени, каждая из которых может указывать на его этническую принадлежность и, возможно, на место рождения. Написание «Боуш» (Bousch), использованное в «Дневнике» и в собственноручных расписках переводчика, весьма редко в современном немецком и не зафиксировано в балтийском регионе в раннее Новое время. Фамилия «Богуш» («Багуш»), напротив, оставляет широкий простор для предположений. Она происходит от западнославянского личного имени Богуслав, для которого уже в Средневековье в польском языке зафиксированы формы Bogusz, Bohusz, Bogosz, Bosz, Boszek и т. д. Широко известны также происходящие от него польские и литовские фамилии – Богушевич, Богушевский и т. п. Имя Богуслав вошло и в немецкий именослов балтийского региона, став, в частности, одним из родовых имен Померанского правящего дома. Носитель подобной фамилии мог, таким образом, происходить из практически любой языковой и этнической среды и быть немцем, поляком, литовцем и т. д. Нельзя, однако, исключать и того, что Богуш (Богуслав, Боуш) в действительности – второе (после первого – Кристоф) имя переводчика, а подлинная его фамилия в таком случае остается для нас неизвестной.
Наконец, вариант «Бауш» (Bausch) кажется привлекательным и с лингвистической, и с географической точки зрения. Этот вариант распространенной фамилии Busch весьма часто встречается как в верхне- так и в нижненемецких диалектах. Носители ее известны и в балтийском регионе, в том числе на территории Курляндии. Представители рода Бушей в конце XVI–XVII вв. были бюргерами в Голдингене и Митаве, где один из них, Ульрих (ум. в 1687 г.), даже стал членом городского совета[50]. Кроме того, есть искушение связать написание «Бауш», особенно в варианте Bauschke, предложенном курляндскими чиновниками в 1667/68 гг., с названием города Бауск (Bausk) на крайнем востоке герцогства (ныне – Бауске, Латвия). Это предположение кажется тем более заманчивым, что в одном из переводов западных печатных изданий, выполненном в Посольском приказе в 1660 г., название Бауск передано как Бауш[51]. Перевод этот анонимен, но делался он с голландского, и едва ли его автором был сам Боуш, не знавший этого языка. Не означает ли тогда Боуш (Bausch, Bauschke) выходца из Бауска или его окрестностей? Следует, правда, иметь в виду, что в самом «Дневнике» Бауск упомянут единожды как Bausk (л. 62 об.), что весьма далеко от написания в источнике имени переводчика.
Неожиданную информацию о социальном и географическом происхождении Боуша можно почерпнуть из челобитной, поданной переводчиком в мае 1656 г. Согласно ей, в том же году русские войска взяли в плен под Старым Быховом «лотыша, вотчинного моего подданного, холопа Анца Браздина», который теперь посажен за приставом в Москве. Боуш просил передать Браздина ему в услужение, «чтоб он по-прежнему холопом и работником моим был»[52]. Как свидетельствует помета на обороте листа, приказные служащие согласились с притязаниями Боуша на владение холопами по праву «вотчинника» и решили отдать Браздина ему, «а в Смоленск не посылать, для того, что он про себя сказал ложно, что он шляхтич»[53]. Как видим, показания пленного о самом себе отличались от слов переводчика. Остается только гадать, в каких действительно отношениях состояли Боуш и Браздин в их прежней жизни, насколько искренними были их утверждения и свидетельствовало ли вмешательство Боуша в судьбу прежнего знакомого о стремлении помочь ему или, напротив, имело целью извлечь выгоду из его несчастий.
Хотя единственная запись в русских документах и большинство свидетельств иностранцев сходятся в том, что Боуш происходил из Курляндии, автор «Дневника» кажется весьма мало заинтересованным в событиях в герцогстве и в перипетиях русско-курляндских отношений[54]. Сведения о Курляндии никак не выделяются в источнике ни по частоте, ни по подробности изложения, ни по эмоциональному накалу. Автор сочувствует «невинному герцогу Курляндии», оказавшемуся в 1658 г. пленником шведского фельдмаршала Роберта Дугласа (л. 68 об. – 69), но порой допускает подобные выражения и в отношении исторических деятелей, с которыми его очевидно ничто не связывало, таких как казацкие полковники Сомко и Золотаренко, убитые в 1663 г. по приказу их соперника, гетмана Брюховецкого (л. 130–132), или боярин Никита Алексеевич Зюзин, пострадавший за сношения с опальным патриархом Никоном (л. 182 об. – 183 об.).
Постоянные симпатии автора «Дневника» обращены только к одной группе – «полякам». Этот этноним, или, вернее, политоним, он трактует очень широко, понимая под ним население или, во всяком случае, дворянство и горожан едва ли не всей Речи Посполитой – от собственно Польского королевства до окрестностей Смоленска. Термины же «Литва», «литовцы» и «литовский» употребляются в «Дневнике» исключительно в узком административном смысле, применительно к государственным структурам Великого княжества Литовского, и прежде всего к его армии. На зависимые от Речи Посполитой территории, в частности на Курляндию, политоним «поляки», очевидно, не распространяется, и вопрос о том, причислял ли себя к ним сам автор, остается открытым.
Неопределенны указания «Дневника» и на конфессиональную принадлежность его автора. О делах веры он говорит неохотно и всегда в контексте политики или ритуала, но не предмета своей совести. Очевидно, что он, даже если и перешел в православие формально, остался чужд «суеверной религии» русских (л. 178 об.). Его сообщения о русском духовенстве сводятся к коротким рассказам о монахах, предававшихся всем видам разврата – от насилия над мальчиками до скотоложества (л. 6). Весьма негативен и его отзыв о местоблюстителе Киевской митрополии Мефодии (Максиме Филимоновиче) в связи с участием последнего в так называемой Черной раде 1663 г. (л. 131 об. – 132 об.). При этом никакого интереса ко внутренним делам православной церкви автор «Дневника» не проявляет. Из всех событий русского Раскола он счел нужным сообщить (правда, довольно подробно) лишь об отъезде патриарха Никона из Москвы в Новоиерусалимский монастырь в июле 1658 г. (л. 55), попытках бояр, действовавших по царскому поручению, выяснить причины этого отъезда (л. 124) и не менее неожиданном возвращении Никона в Кремль и службе в Успенском соборе в декабре 1664 г. (л. 182 об. – 183 об.). Эти события общеизвестны, и наш обычно аккуратный автор не мог пройти мимо них, но ничто не указывает на его желание занять чью-либо сторону в этом конфликте. Вместе с тем в «Дневнике» нельзя усмотреть очевидных симпатий ни к католикам, ни к протестантам, хотя Боуш, если он действительно происходил из Курляндии, вероятно, воспитывался в лютеранской вере. Косвенно о лютеранском вероисповедании автора свидетельствует и последовательное использование в «Дневнике» юлианского календаря, хотя объяснением здесь может служить и привычка, приобретенная на русской службе.
Из пленников в переводчики
Когда именно и при каких обстоятельствах Боуш оказался на русской службе? Единственным свидетельством, проливающим свет на этот вопрос, остается краткая выписка, сделанная в Посольском приказе почти через шесть лет после смерти Боуша и спустя два десятилетия после описываемых событий, в сентябре 1673 г.: «В прошлом во 162-м году взят в полон под Шепелевичами… курляндец Василей Боуш, и был в тюрьме по 164-й год, во 164-м году по указу великого государя взят он, Василей, в Посольской приказ для цесарского и польского языков в переводчики»[55]. Итак, названо точное место, а с ним фактически и дата – 14 августа 1654 г., когда войска князя Алексея Никитича Трубецкого разгромили армию великого гетмана Литовского князя Януша Радзивилла близ села Шепелевичи (ныне – Могилевская область, Беларусь). Эта победа стала самым серьезным успехом русских войск в кампании 1654 г. в полевом сражении, фактически лишив польско-литовскую сторону надежд на деблокаду осажденного Смоленска и предопределив его капитуляцию чуть более месяца спустя[56].
К сожалению, этому позднему сообщению едва ли можно доверять всецело. Если предположить, что Боуш был автором «Дневника» и описывал в нем преимущественно произошедшее в непосредственной близости от себя, то версия о его пленении именно под Шепелевичами не кажется бесспорной. В «Дневнике» действия войск Трубецкого кратко упоминаются только в «Дополнении к 1654 году». Напротив, первые поденные записи относятся к маневрам войск князя Якова Куденетовича Черкасского между Копысью, Оршей и Дубровной 4 и 5 августа, сразу после сражения под Шкловом 2 августа 1654 г., а затем к событиям в царском лагере под Смоленском, в том числе о доставке туда пленных, взятых под Полоцком (л. 1–1 об.). Едва ли автор «Дневника» оказался в числе этих пленных, поскольку в таком случае он не мог быть хорошо осведомлен о действиях Черкасского под Оршей, отстоявшей почти на 200 километров к юго-западу. Скорее, он мог оказаться в расположении армии Черкасского после взятия Орши или разорения ее окрестностей в последние дни июля 1654 г.[57]
Сообщение о том, что Боуш «был в тюрьме по 164-й год», т. е. самое раннее по сентябрь 1655 г., также вызывает сомнения. Современная событиям выписка, сделанная осенью 1655 г., кажется более правдоподобной: «В прошлом во 163-м году июня в 27 день по государеву… указу велено быть в Посольском приказе в переводчиках Василью Баушу, а государева жалованья учинен ему оклад 22 рубли»[58]. Поденный корм размером два рубля три алтына выдавался переводчику именно с 27 июня 1655 г.[59] Впрочем, в другой росписи о выплате жалования, также относящейся ко второй половине 1655 г., временем начала его приказной службы указан июль[60]. 24 августа 1655 г. он уже в статусе приказного переводчика оставил упомянутую выше поручную запись за Ивана Свидерского. Боуш упомянут в этих ранних документах уже под своим русским именем Василий и, очевидно, успел принять к тому времени православие. Вероятно, для этого он провел некоторое время не «в тюрьме», а, как это было принято для желавших или вынужденных сменить вероисповедание иноземцев, «под началом» для исправления в вере в одном из московских или подмосковных монастырей.
Данные «Дневника» целиком соответствуют этим предположениям. За описанием боевых действий в окрестностях Смоленска в нем следуют упоминания происшествий в Возмищенском Рождества Пресвятой Борогородицы Никольском монастыре под Волоколамском, датированные 24 сентября 1654 г., а также началом января 1655 г. (л. 1, 5 об. – 6). Возможно, столь длительное пребывание в монастыре объяснялось тем, что до Москвы было невозможно добраться из-за свирепствовавшей там чумы. 1 марта 1655 г. автор «Дневника» уже находился в столице и наблюдал выезд царя в поход на Вильну (л. 6). Затем записи прерываются на полгода и возобновляются первым известием, касающимся Посольского приказа, – объявлением о возвращении посланников из Курляндии (л. 6 об.) – после чего следуют уже регулярно и не оставляют сомнений в том, что их автор из первых рук получал сведения о внешней политике Российского государства.
Уже 7 октября 1655 г. автор «Дневника» стал свидетелем въезда в Москву императорских послов Аллегретто де Аллегретти и Иоганна Дитриха фон Лорбаха, а под датой 18 декабря подробно описал их прием в Кремле (л. 6 об. – 8 об.). Из русских документов о приеме посольства мы знаем, что Боуш участвовал в работе с грамотами, привезенными императорскими послами, в частности, переводил 11 января 1656 г. один из «листов», поданных ими в Посольском приказе[61]. В те же дни он перевел на немецкий и царскую грамоту, отправленную герцогу Курляндскому с послом Григорием Богдановым, следовавшим к императору в Вену[62], а также ряд польских документов[63]. Тогда же Боуш с полным правом писал о себе в обращенной к царю челобитной: «Работаю я, холоп твой, всякие твои государевы немецкие, цесарские и польские, частию и латинские дела в посольском приказе неотступно»[64].