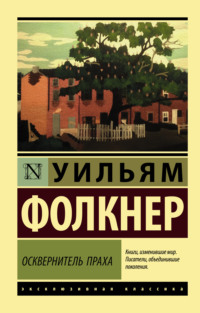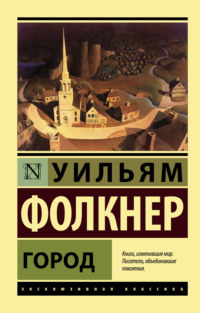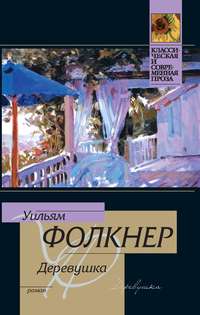Пилон
Войдя, Джиггс приостановился и стал торопливо оглядываться по сторонам, теперь уже неподвижностью рассекая сравнительно слабый сейчас, но по-прежнему ощутимый поток в сторону предангарной площадки, переговаривающийся сам с собой голосами растерянными, озадаченными, изумленными:
– Что там теперь? Что у них там происходит?
– Там человек собрался выпрыгнуть из парашюта и пролететь десять миль.
– Вам бы поторопиться, – заметил Джиггс. – Он может открыться до того, как человек выпрыгнет.
Круглый зал, наполнившийся сумерками, был теперь освещен мягкой, лишенной источника, размытой субстанцией, неземной по цвету и по составу, не отбрасывавшей теней; всеохватной, вкрадчивой, звучной, монастырской субстанцией, в которой стенной рельеф – фреска – нечто из бронзы и хрома, искусно изборожденное тенями, – являло неистово-неподвижную легендарную повесть о том, что человек стал называть покорением безгранично-непроницаемого воздуха. Высоко над головой на лазурно-стеклянном куполе мозаичное двойное «F», повторяя рисунок взлетно-посадочных полос, откликалось на ярко отполированное, сияющее, вделанное в кафельный пол латунное двойное «F», которое, казалось, многократно отражалось по всему залу, находя последовательное беззвучно замирающее эхо в монограмме, украшающей бронзовую решетку над окошками касс и справочных и во фризоподобных вставках в плинтусы и карнизы из искусственного камня.
– Да-а, – сказал Джиггс. – Миллион запросто… А вы, случаем, не знаете, где здесь администрация?
Служитель сказал ему; он направился к маленькой неприметной двери, притаившейся в нише, и, войдя, на короткое время оказался вне голоса, который, однако, был тут как тут, когда минуту спустя он вышел:
– …по-прежнему набирает высоту. Стоящие здесь летчики не могут сказать совершенно точно, на какой он высоте, но мне кажется, что уже вот-вот. Это может произойти в любую секунду; вначале вы увидите муку, а потом живого человека на конце мучной ленты, живого человека, летящего сквозь пространство со скоростью четыреста футов в секунду…
Когда Джиггс опять вышел на предангарную площадку (у него тоже не было билета, и поэтому, хотя он мог беспрепятственно проходить с площадки в круглый зал, обратно на площадку он мог вернуться только кружным путем, через ангар), самолет был всего-навсего малозаметным, незначительным пятнышком, висевшим, казалось, без всякого звука и движения на небе, теперь уже определенно вечернем. Но Джиггс на небо не смотрел. Он проталкивался сквозь гущу неподвижных тел с задранными головами и добрался до заграждения как раз в тот момент, когда с поля вкатывали один из гоночных самолетов. Он остановил одного из обслуживающей команды, уже держа в руке купюру:
– Монк, будь другом, отдай Джексону. За полет с парашютистом. Увидит – поймет.
Он вернулся в ангар, двигаясь уже очень быстро, и начал расстегивать комбинезон, еще даже не доходя до проволочной двери. Сняв комбинезон, он повесил его на крючок и лишь секунду помедлил, глядя на свои руки. «Ладно, в городе вымою», – решил он. Уже зажглись первые огни аэропорта; он пересек площадь перед фасадом, минуя бескровно расцветшие виноградины на литых столбах, на чьих квадратных основаниях учетверенные «F» были хорошо видны даже в сумерки. Автобус тоже был освещен, но пассажиры, которых уже набрался полный комплект, не сидели в салоне. Все они – и водитель тоже – стояли рядом с машиной и смотрели в небо, а голос репродуктора, апокрифический, лишенный источника, нечеловеческий, вездесущий, не ведающий усталости, вещал и вещал:
– …высота набрана; теперь в любой момент… Так. Так. Крыло идет вниз; он уменьшил скорость… ну, ну, ну… Вот он, друзья; мука, мука…
Мука была бледным пятном на небе, начавшим разматываться, как легкая ленивая лента, а потом они увидели в голове у нее падающую точку, еле заметную, растущую, становящуюся крохотным тельцем, которое недвижно-стремительно двигалось к единому долгому замершему вдоху всей человеческой массы, разрешившемуся наконец при виде парашютного цветка. Колыхаясь, он распускался на фоне полноценного уже, неистребимого вечера; под куполом парашютист медленно раскачивался, неспешно приближаясь к полю аэродрома. Пограничные огни и огни на сооружениях теперь тоже уже горели; он плыл вниз словно бы из беззвучной и бездыханной пустоты к яркому ожерелью аэродромных огней и к высвеченному электричеством на крышах ангаров имени. В этот миг зеленый огонь над маяком на сигнальной башне тоже начал мигать и вспыхивать: точка-точка-тире-точка[7]. Точка-точка-тире-точка, точка-точка-тире-точка поверх окаймленного темнотой озера. Джиггс тронул водителя за рукав.
– Ну что, друг, погнали? – сказал он. – Мне к шести успеть бы на Гранльё-стрит.
НЬЮ-ВАЛУА. ВЕЧЕР
В круг подабажурного света настольной лампы попали ноги и бедра репортера; редактору, сидящему за столом в отделе городских новостей, остальная часть туловища показалась смутной каланчой, уходящей в невозможную высь, где в пыльном верховом мраке комнаты плавало, испуская зеленоватую мертвенность, настолько же сродную своему источнику, как рыбе – вода, трупное лицо. Он разглядел шляпу, сдвинутую набок и древнюю, как и костюм, в котором кто-то посторонний, казалось, только что выспался, с осевшим от листов желтоватой бумаги одним карманом, с торчащим из другого холодным, сложенным, яростным, не просохшим еще
НИК: ПЕРВАЯ
СГОРЕЛ ЗА
Весь его облик, вся повадка ассоциировались с последней бодрой стадией того, что люди постарше называют скоротечной чахоткой. Редактор полагал (и уж точно надеялся), что этот человек не женат, – полагал не благодаря каким-либо сведениям, а лишь на основании неких эманации его, репортера, живого бытия; родителей у этого существа, по всей видимости, тоже никогда не было, как не было детства и не будет старости, словно оно в готовом, бесповоротно зрелом виде возникло в результате какой-то яростно-мгновенной эволюции. Если бы, к примеру, выяснилось, что у него есть брат, удивления или тепла это породило бы не больше, чем обнаружение пары к выброшенному в мусорный бак ботинку. Редактору передавали слова девицы из борделя на Баррикейд-стрит, сказавшей о нем, что это было бы все равно как взять входную плату с призрака, который явился на спиритическом сеансе в арендованном зале ресторана.
На редакторском столе, под прямым прицелом настольной лампы, оно тоже лежало – черное, жирное, непросохшее -
ВОЗДУШНЫЙ ПРАЗДНИК:
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
АВИАТОР СГОРЕЛ ЗАЖИВО
Редактор в одной рубашке, откинувшийся на спинку кресла, лысый и тоже мертвенно подсвеченный выше зеленого надглазного козырька, смотрел на репортера с раздражением.
– У вас нюх, что ли, какой-то на события, – сказал он. – Очутись вы в зале, где набилась сотня незнакомых людей, из которых одному суждено застрелить другого, вы кинулись бы к ним, как ворона к падали, вы были бы на месте заблаговременно; да чего там, вы побежали бы на угол к полицейскому и позаимствовали бы у него пистолет для этой их перестрелки. А приносить не приносите ничегошеньки – информацию, и только. Ну, с ней-то порядок – от других газет мы вроде бы не отстаем, что они печатают, то и мы, и в суд нас никто пока что не тягал, и конечно же большего за пять центов никто от нас не ждет, да и не заслуживает. Но живое-то дыхание новостей – где оно, где? Одна информация. Вы и добраться сюда с ней не успели, а она уже померла и протухла.
Репортер неподвижно высился над жестким световым радиусом лампы, глядя на редактора внимательно и напряженно, с видом собаки, натягивающей поводок.
– Как будто на чужом языке читаешь. Да, вы чувствуете: здесь, на этом месте. Может, даже точно знаете и место, и время. Но – и только. Как будто по несчастной какой-то случайности вы, сами того не сознавая, слушать и смотреть приучились на одном языке, а писать, если это можно назвать писанием, на другом. Вы перечитывать-то пробовали? Как это вам?
– Перечитывать что? – спросил репортер. Потом со стула напротив дослушивал редакторскую ругань. На стул этот он рухнул с шарнирно разболтанным грохотом вороньего пугала, сухим – точно костями по дереву, – после чего сидел, подавшись вперед через стол, неуемный, по виду не только находящийся на пороге могилы, но и вглядывающийся уже в то, что делается по другую сторону Стикса, – в кабаки, где никогда не трещал кассовый аппарат и не щелкал выдвижной денежный ящичек, в тот золочено-злачный район, где благовонно блещут и лоснятся от душистых масел безымянные небесные груди вечного и дармового блаженства. – Почему вы раньше мне не сказали? – вскинулся он. – Почему раньше не сказали, что нужно именно это? Я зайцем ношусь восемь дней кряду каждую неделю, ищу материал, нахожу, пишу – а рекламодателей и подписчиков даже восьми тысяч нет. Но не важно. Потому что слушайте.
Он сдернул с головы шляпу и кинул на стол, но редактор мигом смахнул ее репортеру на колени, как на пикнике смахивают со скатерти облепленную муравьями хлебную корку.
– Слушайте, – сказал репортер. – Она там, в аэропорту. У нее мальчонка, но только вот двое их у нее – этих, что водят махонькие машины, на комаров похожие. Нет – водит один, другой совершает затяжные прыжки с парашютом – ну, вы поняли, пятидесятифунтовый мешок муки в руках, и падает с неба, как рождественское или не знаю там какое привидение. Да, да – у них пацаненок маленький, с этот телефон, не больше, но в комбинезончике в точности как у…
– Стойте! – крикнул редактор. – У кого пацаненок?
– Вот-вот. Не знают они. В комбинезончике точь-в-точь как у взрослых; сегодня утром, когда я пришел в ангар, он был у малыша еще чистенький, – может, потому, что первый день воздушного праздника у них за понедельник идет; но он возил палкой по полу, где разлилось машинное масло, и мазал комбинезон, чтобы выглядеть как они… Да, двое их: этот ее Шуман взял сегодня второй приз, поднявшись с четвертого места на развалюхе, про которую там все, кто вроде бы понимает что к чему, в один голос сказали, что ей не место даже в четверке. Она жена его – то есть ее фамилия Шуман, и малец тоже считается Шуман; сегодня утром в ангаре на ней был комбинезон как на всех, в руках тьма ключей и всяких деталей, в губах пучком зажаты чеки таким же манером, каким в старину, говорят, женщины зажимали булавки, пока за шитье дамских нарядов не взялась фирма «Дженерал моторс»; волосы как у Джин Харлоу[8], за них в Голливуде ей отвалили бы денег, и полоса машинного масла на лбу, где она отвела их рукой. Она жена его; жена, считай, с тех пор, как шесть лет тому в калифорнийском ангаре родился мальчонка. Ну вот, а Шуман тогда сел у какого-то там городишки в Айове, или в Индиане, или где там она училась в десятом классе, пока не изобрели авиапочту, чтобы фермеры переставали пахать и принимались глазеть на небо; она вышла прогуляться на переменке и, наверно, поэтому была без головного убора, и в таком вот виде она забралась на переднее сиденье одной из этих «дженни»[9], какие армия распродавала за гашеные марки или не знаю там за что. Может, она и отправила открытку со следующего коровьего выгона, где они сели, тетушке или еще кому, кто ждал ее домой к обеду, если у таких вообще есть родня, если они рождаются от людей. В общем, он стал учить ее прыгать с парашютом. Потому что они не нашего племени, не людского; будь у них человеческая кровь и нормальные органы чувств, они не могли бы так облетать эти пилоны.
Они не хотели бы или не смели бы этого, имей они просто человеческие мозги. Жгите их, как этого сегодняшнего, и они из огня даже голоса не подадут; шмякнись такой на всем лету, и вы даже крови не увидите, когда его вытащат, – одно цилиндровое масло, как в картере мотора. И слушайте: двое их, двое; сегодня утром вхожу в ангар, где они готовят машины, и вижу мальчонку с каким-то типом, на лошадь маленькую похожим, – в боксерской стойке оба, кулаки подняты, а остальные глазеют на них со всякими там ключами в опущенных руках, потом вижу – малец на него кидается, кулачонками машет, а тот уклоняется, поднимает его в воздух, держит от себя подальше, другие смотрят, он ставит его, я подхожу, сам тоже в стойку с поднятыми кулаками и говорю: «Ну что, Демпси, давай – я на новенького», но пацаненок не реагирует, только смотрит на меня, а лошадиный тогда говорит: «Спроси его, кто его папаша», но мне почудилось, он сказал: «Где его папаша», и я переспросил: «Где его папаша?», но он мне: «Нет. Кто его папаша», и я спросил мальца, и тогда он уже на меня летит с кулаками, и будь он хотя бы вполовину такой большой, каким хотел тогда быть, он точно измордовал бы меня как миленького. Ну, я тогда спросил их, и они мне рассказали.
Он умолк – иссякли слова или, возможно, дыхание, но не так, как иссякает жидкость в сосуде, а мгновенной чуткой приостановкой наподобие невесомой движимой ветром игрушки, скажем целлулоидной детской вертушки на палочке. Через стол, по-прежнему откинувшись назад, сжимая подлокотники кресла, редактор глазел на него с гневным изумлением.
– Что?! – вскричал он. – Одна жена с ребенком на двоих?
– Точно. Третий, лошадиный, у них за механика, он не муж даже и, само собой, не пилот. Да, Шуман, значит, приземлился где-то там в Айове или Индиане, а она тут как раз выходит из школы и книжки даже не удосужилась отправить с кем-нибудь из подружек домой, и они лёту оттуда, может, только с открывалкой для консервов да одеялом, чтобы спать под крылом, когда очень уж сильный дождь; а потом второй нагрянул, парашютист, с неба, видно, упал со своим мучным мешком, пролетев мили две-три, прежде чем дернуть кольцо. Не люди они, понятно вам? Уз никаких; нет на земле такого места, где бы ты родился и куда бы возвращался время от времени хотя бы для того только, чтобы денек-другой вволю и всласть поненавидеть чертову эту дыру. От одного побережья к другому, летом – Канада, зимой – Мексика, с одним чемоданом на всех и с одной открывалкой, потому что трое могут обходиться одной с таким же успехом, как один человек или дюжина… В любое место, где только достаточно наберется людей, чтобы авансом оплатить перелет, а потом додать на бензин. Потому что деньги-то им без надобности; не за деньгами они гонятся, не за деньгами и не за славой, ведь слава хорошо если длится до следующей гонки, а то и до завтра не дотягивает. Не нужны им деньги, разве только изредка, когда приходится якшаться с человеческим племенем, – ну, в гостинице иногда, чтобы поесть-поспать, или в магазине купить юбку да штаны, чтобы полиция не приставала. Потому что деньги куда проще добываются, денег там и нет вообще – в четырнадцати с половиной футах от земли, когда ты с почти девяностоградусным креном идешь на вираж вокруг стального столба на скорости двести или триста миль в час в треклятой мошке летучей, собранной как швейцарские часики, у которой потолок скорости – это не просто цифирки под круглым стеклышком, а такая штука, когда ты сжигаешь мотор или у тебя отваливаются к чертовой матери крылья и шасси. Пируэт вокруг ближнего пилона на кончике крыла, полотно трепещет как невеста, драндулет стоимостью в четыре тысячи хорош, может, всего часов пятьдесят, хотя протянул ли так долго хоть один из них – большой вопрос, в гонке их участвует пять штук, главный приз аж двести тридцать восемь долларов пятьдесят два центика минус штрафы, взносы комиссионные и взятки. А прочие все – жены там, дети, механики – замерли на предангарной площадке, как будто их выкрали из магазинной витрины и одели в промасленные защитные робы, и смотрят, и даже думать не думают ни про счет в городской гостинице, ни про то, как мы прокормимся, если не выиграем, ни про то, как будем добираться до места следующего воздушного праздника, если мотор расплавится и вытечет ко всем чертям в выхлопную трубу. А Шуман даже не владелец машины; она сказала мне, что Вик Чанс хочет собрать для него машину и они тоже хотят, чтобы он ее собрал, да только ни у Вика Чанса, ни у них нет пока на это денег. Так что он просто летает на всем подряд, на чем только может получить допуск. На котором он сегодня схватил приз, он летает по соглашению с хозяином; по скорости этот самолет был предпоследним в сегодняшней гонке, и все говорили, что шансов у него никаких, но Шуман наверстывал на пилонах. А когда он не выигрывает, они живут за счет парашютиста – у этого-то как раз дела ничего, он получает почти столько же, сколько говорун-микрофонщик, причем тот полдня должен распинаться, а парашютист подышит всего несколько секунд, пока промахнет свои десять – двенадцать тысяч футов, летящей в лицо мукой, потом дернет за кольцо, и привет. А малец, значит, родился на раскатанном парашюте в ангаре где-то в Калифорнии; можно сказать, вывалился из фюзеляжа и сразу побежал, как жеребчик или теленок, хорошо еще, было на что вывалиться, потому что нашлось место, где приземлиться и откуда снова потом взлететь. Попробовал я представить его себе по-обычному: линия предков, всякие там рай и ады, как у всех у нас, родовые муки, из которых мы произрастаем, чтобы идти по земле, обжав голову согнутой в локте рукой и уворачиваясь вправо-влево, пока наконец не выбьем очко и не ляжем обратно, откуда встали… Вдруг я вообразил его оснащенным парой-тройкой выводков дедов-бабок, дядюшек-тетушек, двоюродных братишек-сестричек – и вроде как помер на месте. Пришлось остановиться, прислониться к стене ангара и вдоволь высмеяться. Что там непорочные ваши зачатия; родился на раскатанном парашюте в калифорнийском ангаре – и все дела; врач потом подходит к двери, подзывает Шумана с парашютистом. Парашютист вынимает игральные кости и говорит ей: «Ну что, кинешь?» А она ему: «Кидай сам». Он кинул, и выпало Шуману, и в тот же день доставили мирового судью, подбросили на бензовозе, и ее фамилия, как и ребенка, стала Шуман. И еще мне тамошние сказали, что не они начали мальца спрашивать: «Кто твой папаша?» Это она начала, а когда пацаненок кидается на нее с кулаками, она крепкое свое мальчишеское лицо, голову, которая так выглядит, словно волосы ей, когда нужно, первый попавшийся из четверых подрезает карманным ножичком, наклоняет к нему, чтобы он мог достать, и только приговаривает: «Вмажь мне. А ну вмажь. Еще сильней. Вмажь как следует». Ну, и что вы об этом думаете?
Он снова умолк. Редактор опять откинулся на спинку вращающегося кресла и глубоко, полновесно, неспешно вздохнул, глядя на репортера, подавшегося вперед над столом и похожего на беспутный и неуемный скелет или на изможденно-мечтательно-яростного Дон-Кихота.
– Думаю – пишите об этом, – сказал редактор. Репортер почти полминуты смотрел на него, не шевелясь.
– Думаю – пишите… – пробормотал он. – Думаю – пишите…
Его голос самозабвенно сошел на нет; он взирал на редактора сверху вниз в бестелесной экзальтации, а тот отвечал взглядом, полным холодного и мстительного ожидания.
– Да. Валите домой и пишите.
– Валите домой и… Домой, где меня никто не… где я смогу… О Господи, Господи, Господи! Шеф, где я был всю вашу жизнь, где вы были всю мою?
– Да, – сказал редактор. Он так и не шевельнулся. – Валите домой, там запритесь, ключ выбросьте в окно и пишите. – Он смотрел на изможденное экстатическое лицо, маячившее перед ним в тускло-мертвенном свечении зеленого абажура. – А потом подожгите комнату.
Лицо репортера медленно отплыло назад, как неторопливо отводимая маска на палке у мальчугана на Хэллоуин. После этого довольно долго он тоже не двигался, только губы слегка пошевеливались, как будто он пробовал что-то очень вкусное или очень невкусное. Затем он встал – медленно, под пристальным взглядом редактора; казалось, он собирает и вновь составляет себя кость за костью, сустав за суставом. На столе лежала пачка сигарет. Он потянулся к ней; не сводя глаз с репортера, редактор схватил пачку таким же быстрым движением, каким он кинул обратно шляпу. Репортер поднял древнюю свою шляпу с пола и теперь стоял, глядя на нее в задумчивой сосредоточенности, словно собирался тянуть из нее жребий.
– Послушайте меня, – сказал редактор; в голосе его зазвучало терпение, почти ласковость. – Люди, которые владеют этой газетой, которые определяют ее линию, в общем, люди, которые платят нам с вами деньги, не зачислили в штат – не возьмусь сказать, к счастью или к несчастью, – ни одного Льюиса, ни одного Хемингуэя и даже ни одного Чехова; причина, и весьма серьезная, заключается, без сомнения, в том, что они им без надобности, поскольку им нужны не романы, пусть даже достойные Нобелевской премии, а новости.
– Вы хотите сказать, вы не верите? – спросил репортер. – Об этой… об этих людях?
– Я вам больше скажу: мне дела никакого нет. Если предполагаемые постельные обычаи этой женщины даже для ее законного, как вы говорите, мужа отнюдь не новость, какие в них новости для газеты?
– Я думал, постельные обычаи женщин – это всегда новости для газеты, – сказал репортер.
– Вы думали? Вы думали? Да вы послушайте меня минуту! Если один или другой сядет в свой самолет или наденет свой парашют и прикончит ее вместе с ребенком на глазах у зрителей – тогда это будут новости. Но пока этого не случилось, я не за то вам плачу, что вы там думаете о ком-то, и не за то, что вы слышали, и даже не за то, что вы видели; завтра вечером вы должны явиться сюда с точным отчетом обо всем случившемся там за день, что вызовет какую бы то ни было реакцию – возбуждение, раздражение – на сетчатке какого бы то ни было человеческого глаза; если вам тогда надо будет раздвоиться, растроиться или даже превратиться в полк, сделайте это. Теперь марш домой и ложитесь спать. И запомните. Зарубите себе на носу. Там будет человек, которого я попрошу сообщить домой мне лично точное время, когда вы войдете в ворота. И если это будет хоть на минуту позже десяти, вам, чтобы поймать в понедельник утром свое рабочее место, понадобится гоночный самолет. Идите домой. Слышите меня?
Репортер смотрел на него взглядом, лишенным всякого жара, совершенно пустым, как будто он несколько секунд назад не только перестал слушать, но и утратил самый дар слуха и теперь просто из вежливости наблюдал за губами редактора, чтобы увидеть по ним, когда он кончит.
– Ладно, шеф, – сказал он. – Раз вы такого мнения об этом.
– Да, я именно такого мнения об этом. Вам ясно?
– Да, конечно. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – ответил редактор. Репортер повернулся к выходу – повернулся молча, нахлобучивая шляпу в точности таким же движением, каким он кинул ее на редакторский стол, с которого она была затем сброшена, и вынимая из кармана, откуда торчала сложенная газета, смятую сигаретную пачку. Редактор смотрел, как он засовывает сигарету в рот, затем тянет шляпу набок, придавая ей этакий беспутный наклон, и выходит, чиркая по дороге спичкой о дверной косяк. Но первая спичка сломалась; второй он чиркнул о пластинку с кнопкой звонка, пока ждал лифта. Дверь открылась, затем с лязгом захлопнулась у него за спиной; он уже засовывал одну руку в карман, беря другой из тощей стопки на второй табуретке рядом с той, на которой сидел лифтер, верхнюю газету и заставляя при этом лежавшие сверху для веса циферблатом вниз дешевые часы съехать на следующую такую же, идентичную. Грубая, сдержанная чернота:
ВОЗДУШНЫЙ ПРАЗДНИК:
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
АВИАТОР СГОРЕЛ ЗАЖИВО
Лейтенант Фрэнк Горем погиб в аварии самолета-ракеты
Он держал газету перед собой, склонив голову набок и щуря из-за сигаретного дыма глаза.
– «Шуман удивил зрителей, отодвинув Буллита на третье место», – прочел он. – Что вы насчет этого думаете?
– Что психи они все, – ответил лифтер. Он не смотрел больше на репортера. Не глядя взял у него монету той же рукой, которой держал потухшую пятнистую кукурузную трубку. – И те, что это вытворяют, и те, что за свои деньги на них пялятся.
Репортер тоже не смотрел на собеседника.
– Удивил, это точно, – сказал он, не сводя глаз с газеты. Потом сложил ее и попытался запихнуть в карман, где уже лежала одна такая же и точно так же сложенная. – Это точно. А будь там у них на виток больше, он еще пуще бы их удивил, отодвинув Майерса на второе место. – Кабина остановилась. – Да уж, удивил… Который час?
Рукой, в которой, помимо трубки, теперь была еще и монета, лифтер взял лежавшие циферблатом вниз часы и показал репортеру. Он не произнес ни слова и даже не поднял на него глаз; просто сидел, держал часы и ждал с терпеливо-усталым видом гостя, демонстрирующего свой карманный хронометр последнему из нескольких детей.
– Две минуты одиннадцатого? – спросил репортер. – Только две одиннадцатого? Черт.
– Не стойте в дверях, – сказал лифтер. – Сквозняк.
Дверь позади репортера снова лязгнула; пересекая вестибюль, он опять попытался засунуть газету в карман к той, первой. Шутовское, обезьянничающее, его отражение в стеклянных уличных дверях глянуло и тут же исчезло. Улица была пуста, но даже здесь, в четырнадцати минутах ходьбы от Гранльё-стрит февральский мрак ослабленно рокотал отголосками приглушенного и упорядоченного столпотворения. Вверху, над кронами пальм, подернутое тучами небо слегка светилось, отражая этот заповедный сейчас, сияющий огнями каньон, заполненный дрейфующей взвесью конфетти и серпантина, сквозь которую карнавальные платформы с шутовски гримасничающими, кривляющимися ряжеными, карликообразными, мучнисто-белыми и бесприютными, проплывали, как сквозь ровно сеющийся дождь, под изумленными взглядами лицевой тротуарной массы, неподвижной и усыпанной конфетти. Он шел не то чтобы быстро, но с неким отвязанным и бесцельным проворством, словно стремясь к этим лицам, но не ради них самих, а лишь ради избавления от одиночества, или даже словно он действительно, как велел редактор, направлялся домой и уже помышлял о Гранльё-стрит, которую должен был каким-то образом пересечь. «М-да, – подумал он, – ему надо было отправить меня домой авиапочтой». Когда он переходил от фонаря к фонарю, его тень посреди шага переметнулась, увлекая его за собой, на тротуар и стену. В темной витрине, глядя вбок, он шел, сопровождаемый двойником; остановившись и повернувшись в тот момент, когда тень и отражение наложились друг на друга, он посмотрел на себя в упор, словно бы на подлинные плечи, согнувшиеся под призрачной ношей умершего дня, а сбоку увидел отраженные в той же витрине свитер, юбку и жесткие бледные волосы беспамятной архипрелюбодейки, рядом с которой он шел, неся на плечах архизачатого.