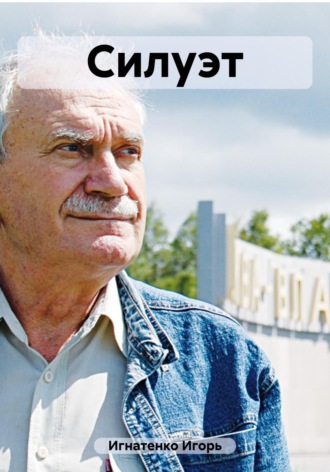
Полная версия
Силуэт
Грядёт Апокалипсис! Тучи сгустились,
Кипящие реки на землю пролились…
Стихи Игнатенко никогда прежде не имели такого высокого эмоционального накала, не проявляли в авторе столь страстного гражданского темперамента, настолько очевидного ораторского стиля. Так начали сплавляться в его творческой реторте две поэтические традиции: мягкая, собственно «лирическая» – та, которую он впитывал прежде всего у Есенина и «тихих лириков» 1960-х, и другая – жёсткая, гневно-страстная, идущая от Лермонтова, от второй части его стихотворного отклика на смерть Пушкина. И хотя в финале с помощью шаблонных призывов, заклинаний и упований автор пытается отогнать от себя жуткое видение грядущего Апокалипсиса («Россия, вставай! Отряхни наважденье, / Тебя ожидает второе рожденье…»), это особо не помогает: «Россия. 1991» сохраняет жанровую форму апокалиптического пророчества. Похоже, сам автор не предполагал, насколько точным окажется его предчувствие крови горячей и драки…
Разлом «большой» Родины пробудил у Игнатенко обострённый интерес к судьбе её сердцевины – к драматической истории национальной колыбели, Руси, к истокам национального бытия и национального характера. В центре внимания поэта теперь трагические и героические изломы русской истории, её знаковые фигуры: Игорь Новгород-Северский, московский князь Дмитрий, Минин и Пожарский, Иоанн Грозный, герои Великой Отечественной… О стихах на эти темы подробней говорится в предисловии к трёхтомнику.
Следующий отрезок поэтической спирали Игоря Игнатенко – возвращение к себе, к своей собственной судьбе, к своим истокам: пращурам, родителям, к рано ушедшей матери. В поэте пробуждается острая ностальгия по ушедшему и ушедшим. Если прежде, в начальный период творчества, самое желанное осознавалось им как то, что лежит где-то далеко – за окоёмом, в будущих делах и творениях, то теперь оно концентрируется в таких простых, связанных с прошлым понятиях, как мама, отец, детство, родительский дом:
Дождь слепой,
дымок над летней кухонькой,
где оладьи мама напекла.
Слово «МАМА» соберу из кубиков.
………………………………
Вот и жизнь куда-то утекла.
(«Давний день»)
Им владеет теперь не звенящая радость, не ликование, как прежде, а печаль, острая, пронзающая сердце тоска – по тому, что было и безвозвратно (но не бесследно) ушло: «Вновь неизбывно в сердце льётся, / До неосознанной тоски, / И эта даль, и бег реки – / Всё то, что родиной зовётся» («Ну вот и первые морозы…»).
Знакомый с детских лет и уже воспетый в ранней лирике мир открывается заново, как в первый раз, как в первый день творенья. И теперь лирический герой уже не спешит от родного порога туда, к горизонту, куда его прежде призывно манил окоём, звало будущее. Центр его вселенной возвращается туда, где он был изначально – к родному гнездовью, маме, к озеру Кочковатому, речкам Горбыль и Гильчин, к сонным карасям в тине, к корове Зойке, к сборникам запретного тогда Есенина, которые они прочли с другом на чердаке…
И эти простые радости для него теперь едва ли не желаннее всего остального: «Раскинув руки, упаду в траву, / в духмяный клевер и тысячелистник, / в глубоком небе, голубом и чистом, / с восторгом детским снова утону» («Встреча с Тамбовкой»). Для усиления выразительности и углубления смысла поэт использует тройную реминисценцию – перекликается сразу с тремя классическими стихотворениями: «Родительница степь…» Павла Васильева («Родительница степь, прими мою, / Окрашенную сердца жаркой кровью, / Степную песнь! Склонившись к изголовью / Всех трав твоих, одну тебя пою!..»), «Видения на холме» Николая Рубцова («Взбегу на холм и упаду в траву. / И древностью повеет вдруг из дола!..») и «Ностальгия по настоящему» Андрея Вознесенского («Упаду на поляну – чувствую – по живой земле ностальгию…»).
В зрелый период Игнатенко заново, по-новому осознаёт себя певцом родного края. Теперь он, как когда-то автор «Тихой моей родины», начинает чувствовать не просто «дежурную» любовь к малой родине, а подлинно сыновью – самую жгучую, самую смертную связь с родной землёй, той самой, в которой когда-то растворилась его мама, в которую ушёл отец:
Я, словно клён, к земле родной прирос.
О, как горчат живительные соки!
Хмелею до невыплаканных слёз,
глотая ветер на обрыве сопки.
(«Я, словно клён, к земле родной прирос…»)
Пройдя через купель «жесточайшей» ностальгии по навсегда утраченному детскому «раю», через ужас осознания конечности земного бытия, через горячее, до сердечной боли сочувствие к соотечественникам, на долю которых из века в век выпадают неисчислимые бедствия и муки, душа лирического героя причащается и очищается, а художественный мир амурского поэта обретает новое качество – подлинно философскую глубину и многомерность, становится художественным космосом.
Поэт ищет возможность побыть «наедине с Предвечным» («У лампады»), пытается отыскать невидимую «линию связи», по которой можно исповедоваться перед Всевышним. И это удаётся: лирический герой Игоря Игнатенко достигает такой высоты, которая позволяет вести (подразумеваемый) диалог не только со своими читателями-земляками, с соотечественниками, но и с Творцом. А для этого нужны не обычные, повседневные слова, а молитвословие. Наряду с прежними, сугубо лирическими жанрами в арсенале зрелого Игнатенко появляются жанры иные – более высокого регистра: молитва, исповедь. Внешний мир в его стихах несколько сужается, сжимается, а внутренний, мир собственной души и собственного духа, напротив, раздвигает свои пределы.
Когда-то Игорь Игнатенко пытался заставить мир услышать себя, а теперь стал слушать мир, чтобы понять и его, и самого себя. На смену пафосу, восклицаниям, порицаниям, прорицаниям, поучениям приходят вопросы, побуждающие к размышлению, к думе. «Родная речь! / Глаголю с колыбели: / вначале: “А!”, / потом: “Агу!”, / затем: “Могу!” Как в ледостав Амур плотнит шугу, / вот так и я словарь свой берегу, / чтоб замолчать и слушать вой метели – / сплошное: “У-у-у!” / Кому? / Чему?..» («В метель»)
А потом, на новом витке спирали, время задавать вопросы сменяется – в стихах последних двух лет – временем молчания:
Пред образами голову склоняю,
держу свечу;
я многого уже не понимаю,
и вот молчу.
Молчание это отчасти тютчевское («Silentium!»), но в большей степени религиозное. Это не банальный отказ в силу каких-то житейских обстоятельств выражать свои мысли и чувства вслух. Это совершенно особое состояние души, жаждущей постичь то, что ускользало прежде, что заслонялось готовыми речевыми формами, заёмной, в том числе книжной мудростью. Это попытка души услышать не очередного «посредника», а именно Его – Того, кто точно знает о смысле бытия, кому открыты тайны жизни и смерти. Эта высшая мудрость открывается молчащему, тому, кто готов смиренно ждать Слово. Именно поэтому, а не по какой-то иной причине, поэт молчит, ждёт: «На грани Тьмы и гаснущего Света / учусь молчать» («Пред образами голову склоняю…», 8 января 2023).
И молчание, сосредоточенность в самом себе вознаграждается сполна: стихи последних двух лет, вошедшие в «Силуэт» – настоящие россыпи простых по форме, но необыкновенно глубоких по мысли строк. О загадке времени: «Старение – суть времени…» («Три времени»). О трудном возвращении к жизни после тяжёлой болезни – ковида: «Дышу. / Пишу. / И не грешу» («Горьких истин кислород», 31 октября 2022). Одно из самых убедительных подтверждений, что молчавший поэт услышал то, что хотел услышать, – «След», один из недавних его шедевров:
Дети, внуки…
Дети внуков —
Это след мой на Земле,
Полный красок,
Линий,
Звуков
В бесконечной стылой мгле.
Я уйду,
А он продлится
В череде иных времён;
Повторят родные лица
Смыслы родственных имён.
И откуда-то…
Откуда?
Путь укажет вечный свет.
Я уйду…
И, значит, буду
Знать, что мой продлится след.
И в заключение хочется процитировать строфу из ещё одного недавнего произведения:
Пора бы подводить итог,
да нет с цифирью сладу.
Я сделал всё, что сделать смог,
а больше и не надо.
(«Последняя воля», 17 декабря 2022)
На этот обращённый к читателям монолог – «последнюю волю» классика литературы Приамурья хочется ответить: «Рановато об итогах. Не всё. Надо, мы очень ждём…»
Долгие лета, Игорь Данилович!
Александр Урманов
доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка
и литературы
Благовещенского государственного
педагогического университета
Моему наставнику
Я познакомилась с Игорем Даниловичем в далёком 1998 году. Тогда мне, десятилетней, посчастливилось попасть на областной семинар литераторов-школьников. Вспоминаю, как, впервые увидев Игоря Даниловича, удивилась: какой он высокий, спокойный и доброжелательный. Этот человек вызывал доверие. Страх тотчас же покинул меня, и уже тогда мысленно было определено, кто станет моим наставником.
Так началась наша дружба. Маститый поэт с богатым литературным багажом – и простая девочка из деревни.
Признаюсь, в десять лет я понимала не все стихи Игоря Даниловича, но меня всегда восхищало то мастерское владение словом, которое я видела у него. Он стал моим учителем, творческим наставником, моим проводником в мир литературы. Его стихи полны сердечной теплоты, искренности и бесконечной любви к родной земле. А в некоторых читатель сам додумывает что к чему.
Игорь Данилович многому меня научил, заставил поверить, что я могу, а без этого моих стихов, наверное, не было бы.
Записки старого поэта…
Их примут нежно небеса.
Взаимность эта, участь эта —
Писать…
В глубине души я всегда знала, что эти мои стихотворные строки адресованы Игорю Даниловичу. Ему их и посвящаю.
Евгения Бутова,
член Союза писателей России
Заветное
Стихи из ранних книг
РОДИНА
Позвала меня осень
На пустые поля.
Серебристая проседь.
Без листвы тополя.
Бесконечные дали…
Потаённая грусть…
На пороге печали
Помню всё наизусть.
* * *
У меня одна дорога:
от отцовского порога —
по родимой стороне.
Здравствуй, город,
здравствуй, поле,
здравствуй, милое раздолье,
и зимой, и по весне!
Открывайте, люди, двери,
верьте мне, как я вам верю,
бойтесь сытой глухоты.
Вот он я – себя открою,
поделись и ты судьбою,
стань, земляк, мне другом ты.
ДОРОГА ДОМОЙ
Летал я много, ездил много,
ходил пешком в стране родной,
и оказалось, что дорога
всегда ведёт к себе домой.
По рекам плавал и озёрам,
качался на волне морской,
и открывалась снова взору
дорога, что ведёт домой.
С людьми сближался в дальних странах,
но был везде и всем чужой,
и понимал, что, как ни странно,
дорога тянется домой.
И вот я здесь…
Стою и плачу,
качаю горько головой;
сквозь неудачи и удачи
дорога привела домой.
Предназначенье свыше строго
в суть разрешило заглянуть.
Но, чу! – трубит в свой рог дорога,
ведёт из дома в новый путь.
* * *
Мерно время стрелки движет,
верно год за годом нижет
череду событий в цепь
без конца и без начала,
от крыльца и до причала,
через горы, море, степь,
через радости, потери,
арку радуги и двери
без засовов и замков,
сквозь преграды, бастионы,
распри, войны и законы
для покорных дураков.
Не спешите, не гоните
лошадей в пылу открытий,
берегите эту крепь,
где все звенья невесомы,
где бессмертны хромосомы —
быстротечной жизни цепь,
где равна секунда веку,
Бог подобен Человеку —
Созидателю, Творцу,
где на Древе Жизни вечном
прирастают бесконечно
наши дни – кольцо к кольцу.
РАДОСТЬ
Радость самая большая —
отдавать,
но сумятица мешает
начинать;
мчимся, голову сломя,
из огня —
да в полымя.
Достаём,
стяжаем,
копим барахло,
а оно собратьям скольким
помогло?
Душу вытряхнет стократ,
и не рад,
да как назад?
С лёгким сердцем растрясите
сундуки,
доброту не заносите
вы в долги,
ведь колодец только чище
от того,
если черпают почаще
из него.
ГОГОЛЕВСКИЙ ПАРАФРАЗ
Несть Маниловым числа,
есть у них забота:
не имея ремесла,
учат нас работать;
строят замки на песке,
мост ведут вдоль речки,
от греха на волоске,
ставят Богу свечки;
выбирают нам пути,
и ведут в разруху;
мысль до чувства довести
не хватает духу.
А дорогу им во власть
стелем мы же сами;
птица-тройка унеслась
русскими полями,
в неизведанной дали
замолчал бубенчик…
Вот мы, братцы, и пришли
к Гоголю на встречу.
Мёртвых душ не сосчитать,
а живых не густо.
Если правят вор и тать,
то молчит искусство.
Поднимает веки Вий,
нечисть торжествует,
и рождённый для любви
во вражде бытует.
Правда – в сердце острый нож,
сами его точим.
Николай Васильевич, что ж
ты нам напророчил!
Для чего идти во Храм,
коль в душе нет Бога?
Если Миром правит Хам,
тяжела дорога.
Отгорел пучок лучин,
откоптили свечи…
Переменных величин
постоянны речи.
От унынья зарекусь,
равно от восторга,
с тем идёт от века Русь
к солнышку с востока.
Нам надежду болтуны
в сердце не попрали.
Дети сказочной страны —
будем жить по правде.
ДОВОЛЬНО ЖДАТЬ
Ещё не все передрались,
но в душах пусто, как в продмаге;
от пропасти в последнем шаге,
сородич мой, остановись!
На флейту ушлого ловца
ты долго двигался в потёмках,
и вот пришёл, стоишь смятенно,
гримаса катится с лица.
Ты честно шёл, ты хрипло пел,
ты делал тяжкую работу —
и вот провал…
Какой по счёту?
Ты зря страдал и зря терпел?
Уныло кычет вороньё,
и ни ответа, ни привета…
Хотя бы луч ничтожный света,
хотя б закончилось враньё!
Не верь, что жизнь прожита зря,
не досаждай молитвой Богу,
бери топор, мости дорогу,
довольно ждать поводыря.
НА КРОМКЕ ПРИБОЯ
Каким меня ветром сюда занесло!
На кромке прибоя гнилое весло…
Полвека назад здесь причалил мой бриг
И чайки сорвались в безудержный крик.
Как ломит в ушах! Как болит голова!
Любимая, где ты? Ты тоже жива?
Ни знака, ни звука, нигде ни следа…
Каким меня ветром задуло сюда?
Гнилое весло на урезе воды…
Предчувствие встречи ужасной беды.
Я напрочь забыл, для чего был рождён,
Зачем к этой кромке морской пригвождён.
Никто не встречает, но чудится мне
Подобие лодки на дальней волне.
За мною плывут ли? Ко мне ли спешат?
И что, повстречавшись, со мной совершат?
Морская капуста… Йодистый дух…
Крикливые чайки насилуют слух.
Врезается лодка в зернистый песок;
Я здесь, подходите, нацельтесь в висок.
Не зря вы приплыли сюда поутру;
Тельняшку рвану на груди и умру.
И в рану напрасно вцелуется йод.
И ветер утихнет… Весло догниёт…
РОССИЯ. 1991
Награды не жди и пощады не жди,
Опять обманули Россию вожди.
То скопом нас гнали к всеобщему благу,
То в голос вопят: «К коммунизму ни шагу!»
Знать, ворон накаркал лихую беду
И кто-то в заморскую дует дуду.
В предчувствии крови горячей и драки
Летят упыри и ползут вурдалаки.
Грядёт Апокалипсис! Тучи сгустились,
Кипящие реки на землю пролились.
Россия, вставай! Отряхни наважденье,
Тебя ожидает второе рожденье.
Закатится солнце за лысой горою,
Ты больше не жди никакого героя,
Но каждому в сердце надежду вложи,
В потёмках сгустившихся путь укажи.
Пусть будет мне трудно – до хрипа, до стона,
Пускай я погибну, но только достойно.
И дети, и внуки – их честно растил я —
Из пепла тебя возродят, Мать Россия!
* * *
Обрыдали кулики
осень на увалах.
Дни не просто коротки —
их ничтожно мало.
Листопадные дела
завершает вьюга.
Эк, сугробов намела! —
вся бела округа.
Сойка села на пенёк,
чистит клюв о перья,
в серый будничный денёк
отворяет двери.
Заяц тропку напетлял,
чтобы рысь не знала,
где он нынче ночевал
в роще за увалом.
Здесь у всякого зверья
есть своя забота.
Стал задумчивым и я,
словно жду чего-то.
Вдаль смотрю и хмурю лоб,
не курю махорку,
телеграфный старый столб
вижу у пригорка;
подойду и прислонюсь
к трещинам древесным.
Ничего я не боюсь,
всё, как есть, известно.
Песню стылых проводов
буду слушать молча.
Я давно уже готов
в небо взвыть по-волчьи.
Отзовитесь, сколько вас,
зимние недели?
Глядь – а день уже угас…
Тьма на самом деле.
НА ПЕРЕПРАВЕ
Коней на переправе не меняют
и от добра – добра не ищут,
а если память изменяет,
опять идут на пепелище.
Мы так умеем рушить и ломать —
не надо термояда и распада,
и Бога начинаем вспоминать,
когда грозит суровая расплата.
По главной сути жизнь не суета,
не гонка за деньгами и постами.
Не к нам ли возопил Христос с креста:
«Отец, Отец! Зачем меня оставил?»
Построить дом, наследника родить —
обязанность святая человека,
и дерево у дома посадить,
как веху начинаемого века.
И если миром правит красота,
то красоту рождает созиданье.
Весло в руке,
пусть волны бьют в борта,
нас ждёт на переправе испытанье.
С лицом открытым все невзгоды встретить,
свежайший ветер во всю грудь вдохнуть,
водораздел веков, тысячелетий
преодолеть – и снова в дальний путь.
УХОДИТ ВЕК
Тамаре Шульге
А что года?
Пока ещё мы живы.
И что века?
Пока ещё поём.
Пророчества утрат,
Как прежде, лживы;
Наш век при нас,
И мы ещё при нём.
Ещё метели выбелят нам души,
Ещё дожди омоют на пути.
Шаги в пространстве
Глуше,
глуше,
глуше…
Уходит век.
Простись с ним
И прости.
2000
В МЕТЕЛЬ
Родная речь!
Глаголю с колыбели:
вначале: «А»!,
потом: «Агу!»,
затем: «Могу!»
Как в ледостав Амур плотнит шугу,
вот так и я словарь свой берегу,
чтоб замолчать и слушать вой метели —
сплошное: «У-у-у!»
Кому?
Чему?
И в ставню пóстук:
«Отвори! Дай кров».
Что ж, так и быть, открою гостю двери,
подброшу в печку дров.
Чем доброту измерить:
числом поленьев,
чередою слов?
Пусть посидит и помолчит со мной,
не одному мне холодно зимой.
В конце концов, есть жесты доброты незрячей:
возьму стакан, налью воды горячей,
пакетик чаю «Липтон» опущу
и сухари придвину на тарелке —
пусть долго пьёт;
усы я отращу
и бороду;
я рад подобной сделке.
Века пройдут или минуты?
Что с того!
От гостя мне не надо ничего;
мы вместе с ним забудем в эту ночь
весь алфавит,
все словари науки,
горячий чай пусть согревает руки,
метель неясные рождает звуки —
она одна сумеет нам помочь.
ИСПОВЕДЬ «СОВЫ»
Опять не спать,
опять писать стихи…
А ночи и безлунны, и глухи,
лишь тусклится звезда с немой отвагой.
Надену тёплый, до полу, халат,
и в час, когда другие люди спят,
задумаюсь над белою бумагой.
Послышится легчайший звук шагов,
похожий на шептанье тайных слов,
и будет глас,
и грянет откровенье.
Ещё не знаю, для кого, о чём,
но Муза продиктует горячо
созревшее своё стихотворенье.
До строчки всё последней запишу,
перебелю и лампу погашу,
попробую заснуть затем быстрее,
но сон упрямо ходит стороной;
лежу, молчу – усталый и больной.
Нет забытья!
Наверное, старею…
Никто нигде стихов сейчас не ждёт.
На что надеюсь – полный идиот!
А впрочем, ни на что не уповаю.
Корабль готов,
холстина парусов
на реях дожидается ветров.
Повеяло.
Прощайте!
Уплываю…
КОГДА…
Когда в душе нет музыки страданья,
Писать стихи – напрасные старанья.
Когда на сердце тишь и благодать,
Заветного творенья не создать.
Когда всё тело, как сплошной ожог,
До вещего прозрения шажок.
Когда любовь махнёт тебе: «Прости!»,
Тогда лишь сможешь крылья обрести.
Когда покинешь этот бренный свет,
Тогда поверят, что ушёл Поэт.
КОКТЕБЕЛЬ
Двусловия
Залив бирюзовый.
Ветер понизовый.
Мачты. Паруса.
Шкипер загорелый.
Юнга неумелый.
Чаек голоса.
Чешуи монета.
Зарево рассвета.
Тающая тень.
Волны. Афродита.
Посейдона свита.
Народился день.
Запах ламинарий.
Есть киносценарий.
Некому снимать.
Цифровое фото.
Блёкнет позолота.
Надо улетать.
НИКОЛАЙ УГОДНИК
Жизнь прошла по будням и по датам
скудных плюсов и сплошных потерь;
шёл в партком на исповедь когда-то,
в церкви свечки ставлю я теперь.
Николай Угодник смотрит строго,
собираясь охранять мой путь;
секретарь синклита он у Бога,
служит мне, а не кому-нибудь.
Упаду – он тотчас же поднимет,
заблужусь – наставит вновь на путь,
и перстами лёгкими своими
указует бренной жизни суть.
То ли штурман, то ли всепровидец…
Не пойму, чем так ему я люб;
всех моих несчастий очевидец,
сжавший Слово меж суровых губ.
Николай Угодник не напрасно
поглядел с надеждой в душу мне.
Отгорела свечка – и погасла,
но душа согрелась в том огне.
ТЕНЬ
Чья там тень прошелестела,
Выдох чей сорвал листок,
В ком душа тревожит тело,
Кто взмутил глотком исток?
Стой, неведомый прохожий!
Ты откуда и куда?
У меня мороз по коже
От безвестности всегда.
Где жалейка горько пела,
Наклонился краснотал.
Чья там тень прошелестела?
Может ангел пролетал…
КРЕЩЕНИЕ ВНУКА
Худой священник безбородым был,
его невнятная скороговорка
являла прихожанам юный пыл;
младенцы плакали,
дрожали свечки в горке,
и запах ладана по Храму сладко плыл.
Худой священник очень строгим был:
заметив вспышку фотоаппарата,
он забывал всё то, что говорил,
и упрекал как будто виновато,
а слышался смущённый шелест крыл.
Худой священник в сане малом был —
простой дьячок на службе Саваофа,
он к Богу возносил псалма посыл,
уткнувши палец в вензель апострофа,
и лексикой старинной всех томил.
Худой священник пред амвоном был
сосредоточьем зрения и слуха,
и сердца колокол в груди набатно бил.
Отца и Сына, и Святого Духа
крещенье принял внук мой Даниил.
Худой священник Божьим гласом был,
он осенял младенцев троеперстьем,
святой водою щедро окропил.
И купол Храма нёсся в поднебесье.
И вспомнил я всё то, что позабыл.
20 сентября 2010
У ЛАМПАДЫ
Пусть лют мороз,
в теплынь купели
ты окунись.
Блаженны, кто в январь сумели







