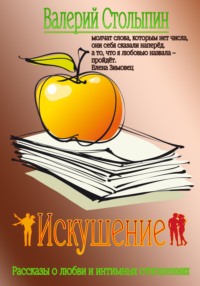Полная версия
Двое в тиши аллей
Расчёт (так ей казалось), был прост – преподнести себя в наиболее выгодном ракурсе в отсутствии серьёзных конкуренток из числа заклятых институтских соперниц.
Находясь постоянно рядом, помогая освоить незнакомые воспитательские обязанности не так сложно малюсенькими шажками, пусть для начала намёками, обозначить серьёзность намерений, умело демонстрируя и подчёркивая лучшие духовные и практические качества.
Лиза – девушка интересная, даже симпатичная в меру, с лёгким уступчивым характером, чего Генка упорно отчего-то не желал замечать. Точнее, он всё отлично видел: и милое личико с застенчивым румянцем, и кокетливые льняные кудряшки, и озорные ямочки на щеках, а также трогательный взгляд, чувственную мимику, красноречивые жесты, но не испытывал к ней ничего, кроме дружеского расположения.
С ней было интересно, весело – не более того.
Девушка старательно приближалась к мечте, насилуя во всю мощь романтическое воображение и трепетную женственность, но покорить заветную вершину никак не удавалось, что было вдвойне обиднее, когда Генка, не ведая, что творит, запросто обнимал её за плечи, упруго прижимался в танце, брал за руку или целовал в качестве дружеского приветствия. Увы, точно так же он поступал с другими девушками.
Лиза изводила себя болезненными фантазиями на темы любви, а невнимательный к её усердному флирту Генка не выказывал личного предпочтения, не давал даже крошечной надежды на счастливый финал романтической истории.
К концу первой смены его обожал весь педагогический и административный коллектив, все мальчишки мечтали научиться играть на гитаре и петь как он, а девчонки не отходили от кумира ни на шаг, оспаривая между собой право на его личное внимание.
Так случилось, что в Генкин отряд попала тринадцатилетняя соседка – Ирочка Семьина, что само по себе было событием обыденным, если бы эта девочка не была влюблена в него до помутнения рассудка. Если бы не дала понять в полной мере, что это слишком серьёзно, если бы не разбудила в уравновешенной до того момента подружке кумира – Лизе Шилкиной, дремавшую до той поры ревность, и не заставила соперничать.
К особенному отношению дам всех возрастов юноша был привычен, потому никого индивидуально не выделял. С назойливым вниманием, тем более с очарованными его талантами воспитанницами, запросто справлялся, направляя их неуёмную энергию в созидательное русло – легко выдумывал разного рода состязания и творческие проекты, отвлекающие излишки причудливого, но пластичного девичьего воображения, в сторону от преждевременных романтических грёз.
Ирочка оказалась девочкой особенной. Вежливые, даже строгие педагогические методы воспитания и увещевания на неё абсолютно не действовали. Она упорно оказывала Игорю недвусмысленные персональные знаки внимания, невзирая на его к себе отношение.
Девочка брала упорно не замечающего её особого расположения воспитателя за руку и настойчиво прожигала его мозг наивно-выразительным, неравнодушно обаятельным взглядом.
– Шилкина, ты уже не малышка, – спокойным тоном объяснял вожатый, – и ты не одна такая впечатлительная в отряде. Если опекать каждую девочку в отдельности, по часу всех держать за ручку и нежно гладить по головке, мне не только на личную жизнь, но и на сон времени не останется. Пойми, кудряшка, мы не в детском садике. Будь умницей – веди себя, как подобает взрослой леди.
Гена гладил её по головке и разнимал руки.
Через мгновение их ладони снова были сомкнуты нежным рукопожатием.
Если Генка проявлял настойчивость, в глазах воспитанницы появлялись слёзы, но она не сдавалась.
Когда вожатый играл на гитаре или что-либо интересное рассказывал, Ирочка садилась рядом, прижималась к его корпусу головой, упорно отстаивая исключительное право на индивидуальную привилегию.
Лиза пыталась пресечь на корню притязания юной кокетки, прибегая то к убеждению, то к совсем непедагогическим методам.
Тщетно. Вожатая тут же получила ответку – целую банку красных лесных муравьёв в постель или нечто похлеще.
Соперничать с подростком оказалось совсем непросто. Девочка упорно шла к своей цели, ловко оттесняя взрослую ревнивицу неожиданными, вполне осознанными действиями.
Со стороны их затяжной, довольно агрессивный поединок выглядел увлекательной игрой, на деле это была нешуточная дуэль двух трагически влюблённых женщин, виновник которой упорно не замечал очевидного противостояния активно противоборствующих сторон.
– Неужели не понимаешь, девочка, что подобным нескромным поведением ты можешь поставить Геннадия Васильевича в неловкое положение, – распекала её Лиза, – администрация лагеря может расценить внимание в твой адрес вожатого как извращение, как преступное покушение взрослого мужчины на невинность маленькой девочки. Его могут уволить, отчислить из института. Посадить, наконец.
– Не ваше дело учить меня. Гена сам выберет, кого из нас полюбить. А я ему помогу.
– Гена… любить! Да как ты смеешь в таком тоне говорить о взрослом человеке! Да я родителям твоим всё расскажу!
– Чего именно, что я его за руку держала? Успокойтесь, тётенька. Танцует-то он не со мной, с вами. Но это несерьёзно. И вообще… я его не ревную.
Не сказать, чтобы одна из противоборствующих сторон лидировала, хотя у старшей соперницы были очевидные преимущества: ночные посиделки у костра, медленные танцы с довольно откровенными тесными объятиями, возможность называть события и настроения своими именами.
Увлечь Геннадия эмоциями и чувствами было непросто. Возможно, он ещё не созрел для серьёзных отношений, хотя Лиза ему порядком нравилась. И прикасаться к ней было жутко приятно.
Впрочем, наивное романтическое воображение возбуждала не только она. С некоторых пор юноша часто задумывался на темы любви, но опосредованно, абстрактно, как о чём-то удивительно приятном, но недосягаемом.
Ирочка назойливо вертелась между ним и Лизой, что начинало его напрягать: мало ли чего могут про него подумать.
Тем не менее, поставить на место малолетнюю капризулю не получалось: она добивалась внимания совсем не детским упорством, пытаясь подражать взрослым искусительницам: видно начиталась любовных романов, теперь начала проводить испытания в том же ключе.
Удивительно, но образ девочки вызывал у Геннадия странные эмоции. Иногда он ловил себя на мысли, что если бы она была чуточку старше… пожалуй, в неё запросто можно было влюбиться.
От внимания Лизы не ускользнуло Генкино сентиментальное состояние, чётко отпечатавшееся на его одухотворённом лице.
Влюблённые женщины мистическим образом чувствуют угрозу личному счастью. Следующей же ночью она пошла в лобовую атаку, раззадорив друга откровенно показной доступностью.
Было холодно и сыро, что стало поводом прижаться теснее обычного, а затем выпросить горячий поцелуй.
Ирочка наблюдала за игривой парочкой издалека. Видела она и то, что случилось после.
На следующий день её словно подменили. Девочка выглядела измождённой, убитой неведомым недугом.
Осмотревший её врач патологий не обнаружил, но поместил Ирочку в карантин.
Геннадию Васильевичу как старшему вожатому отряда, пришлось посетить больную.
Девочка, увидев его, отвернулась, закрылась с головой одеялом.
– Что случилось, егоза? Тебя не узнать, пупс. Давай поговорим… серьёзно… как друзья.
– Не о чем мне с вами разговаривать.
– Это ещё почему?
– Я всё… всё-всё видела.
– Не пойму, о чём речь.
– О тебе, о твоей противной Лизке! Там… ночью. Видела, как ты шарил у неё запазухой, как целовал.
– Подглядывала. Но это моя личная… понимаешь, малыш, это обычная взрослая жизнь. Тебя она не должна касаться. И вообще… почему я должен перед тобой оправдываться!
– Потому, что я люблю тебя, Геночка!
– Ты! Это же смешно, деточка. Мне двадцать один год. Тебе тринадцать. Если бы я только подумать посмел о любви к тебе… это уже можно расценивать как преступление. Считаешь, что моё место в тюрьме? Такую судьбу ты для меня придумала!
– Поцелуй меня. Пожалуйста. Один единственный разочек.
– Нет, нет и нет! Исключено. Разве что в лобик, чтобы проверить – температура у тебя или воспаление хитрости.
– Почему… Лизка вкуснее! Или потому, что у меня титек нет?
– Не Лизка, а Елизавета Максимовна. Она взрослая, а ты… ты несмышлённый ребёнок.
– Ну и что! Я тоже скоро вырасту.
– Но не сейчас. К тому времени подрастёт мужчина твоей мечты. Ты его обязательно встретишь. Влюбишься. Всему своё время. Не торопись стать взрослой. Это совсем не так здорово, как кажется. Я бы, например, с удовольствием вернулся в счастливое детство.
– Я не ребёнок!
– Хорошо, в беззаботную юность.
– Так верни… тесь. Представьте себе, что мы ровесники. Поговорим как друзья.
– Это можно.
– Тогда на “ты”. Я могла бы тебе понравиться?
– Несомненно. Любая девочка имеет шанс стать любимой.
– Представь, что я призналась тебе в пылких чувствах, в том, что жизнь без тебя – мучение.
– Допустим. Как версию для расследования непростой ситуации.
– Что чувствуешь? Только честно.
– Наверно неловкость. Так ведь неправильно. Признаваться, сделать первый шаг, если речь действительно о любви, должен мужчина.
– Вот… логично, даже правильно. Так признавайся же.
– Мне не нравится эта игра. Если настаиваешь – давай договоримся иначе: не я вернусь в детство, а ты… сначала подрастёшь. Я подожду, пока тебе исполнится восемнадцать лет. Если не передумаешь – вернёмся к этому непростому разговору. И прекращай хандрить. Ты ничем не болеешь.
– Обещаешь! Точно не обманешь?
– Ну… не знаю. Постараюсь оправдать твоё безграничное доверие.
– Поклянись.
– Чтоб мне… самую страшную кару на повинную голову, если нарушу клятву верности, – с улыбкой, немного дурачась, произнёс Гена.
– А Лизка! Поклянись, что больше никогда до неё не дотронешься. Всего-то пять лет. И это… руки покажи, что пальцы крестиком не держишь.
– Это несерьёзно. Какая же любовь без доверия.
– Ещё как серьёзно. Я, например, клянусь, что никогда впредь до совершеннолетия не заставлю тебя краснеть за неловкое поведение, никогда-никогда не предам… и не передумаю выходить за тебя замуж.
– Даже так. Знаешь, малышка, это не очень правильно. Пять лет для тебя, это одно, для меня – совсем другое. Через год я получу диплом. Меня могут распределить… куда угодно, даже на самый-самый крайний край света. Ты здесь, я – там. Пойми, глупенькая – нельзя загадывать любовь и счастье на полжизни вперёд. Давай уже заканчивать нашу игру.
– Ни за что! Или ты возьмёшь меня в жёны, или я… или меня не будет. Совсем. Никогда. А ты будешь жить дальше, будешь целовать эту противную Лизку… или много-много других девочек. Но не меня.
– Это блажь! Детский лепет. Так не бывает, чтобы дети ставили условия взрослым.
– Тогда уходи… немедленно!
– После того, как перестанешь притворяться. Встала и пошла в отряд.
– Тебе меня совсем не жалко… нисколечко?
– Напротив, только за тебя и переживаю. Если действительно меня любишь, значит, поступишь как взрослая. Обещай, что никаких неожиданностей больше не будет.
– Клянусь! Но и ты тоже… обещай.
– В моём детстве подобное поведение называлось сказкой про белого бычка. Ты пытаешься мной манипулировать.
– Пять лет, Геннадий Васильевич, и увидишь, что я не капризничаю. Клянусь!
– А если нарушу клятву, тогда что?
– Тогда я докажу, что большая, и очень взрослая.
Юноша поклялся, но несерьёзно, в надежде и уверенности, что такое положение дел рассосётся само собой, что давая подобное обещание, абсолютно ничем не рискует.
А позже задумался.
Очень уж не хотелось стать клятвопреступником.
Наверно он ненормальный, неправильный, если допускает мысль, что такое возможно.
Все пять лет Ирочка жила рядом, пристально наблюдая за женихом, ведущим предельно активный образ жизни.
В его окружении было много девушек, но ни одна из них не вызвала у маленькой невесты такого приступа ревности, как Лиза, которая после того рокового разговора добровольно сошла с дистанции.
Интуиция подсказывала Ирочке, что нет повода для беспокойства, что сердце не обмануло предчувствием большой любви.
Конечно, ни свадьба, ни романтический круиз не дают уверенности в завтрашнем дне. Судьба – дама капризная, ветреная: её неустойчивая благосклонность может переменить направление следования в один миг… особенно если сам заблудился, если не знаешь, к чему на самом деле стремишься, чего хочешь.
Мечта – всего лишь плод впечатлительного воображение, даже не намерение, не говоря уже о способности добиваться, действовать, настойчиво и твёрдо идти к заветной цели.
Хочется верить, что у четы Марковых все мечты имеют реальный шанс когда-либо сбыться.
Про врачебный инцидент
над мыслями я не властен
я в них и горел и гас
когда меня спросят о счастье
я буду молчать
о нас
Саша Мисанова
На улице было промозгло, ветрено, очень скользко, после ледяного дождя, а у Пал Палыча, участкового терапевта, как назло накопились двенадцать вызовов на дом.
Восемь пациентов он уже посетил, теперь шёл как на настоящую Голгофу к хронической больной – Марии Ивановне Прониной, удивительно пряничной старушке с манерами высокородной аристократки в сотом поколении, которая два раза в неделю обязательно оформляла срочный вызов на дом.
Павел знал, что болезни лишь повод – бабуле катастрофически не хватает общения.
В первый раз, когда пришёл её спасать, Мария Ивановна встретила доктора настороженно, выглядела так, словно не умирать собралась, а как минимум на спектакль в театр, на премьеру, и сразу повела в гостиную, где исходил паром цветастый, под хохлому, самовар.
Стол, накрытый вышитой скатертью, был заставлен сухарями да сушками, домашнего приготовления сладостями, свежеиспечёнными плюшками.
Старушка была жизнерадостна, бодра, словоохотлива и весьма активна: сходу пригласила за стол и потчевала, потчевала, потчевала. С шутками да прибаутками. Задавала тысячу вопросов, нисколько не относящихся к профессии озадаченного таким приёмом посетителя. Отказаться участвовать в священнодействии, было невозможно. Визит затянулся часа на полтора.
Теперь Пал Палыч заранее обдумывает, как избежать сладкоголосого плена, хотя раздражения и неприязни не испытывает: просто работы много, даже на себя времени не хватает.
Осмотрев бабушку для порядка, Павел выписал рецепт, детально проконсультировал на все случаи жизни, отпустил для соблюдения сложившегося протокола посещения с десяток заготовленных загодя комплиментов.
– Извините, Мария Ивановна, стемнело уже, а у меня ещё три вызова, один в вашем подъезде. Я ведь с утра на службе: шесть часов принимал больных на участке, два часа потратил на бюрократические отписки. Теперь на обходе задержался, а у меня маковой росинки во рту не было.
О сказанном Пал Палыч тут же пожалел, но было поздно. Пришлось пить чай с сочниками и рогаликами. И выслушивать с восторгом поведанные истории из её жизни в совсем другой, непохожей на нынешнюю, стране.
После второй чашки Павел запросил пощады.
– А кто у нас заболел, не Фёкла Степановна? Хворала она, это точно.
– Нет-нет, не она. С этой дамой я уже познакомился на той неделе. Нет, – Павел достал журнал вызовов, – Акимова. Люся Леонидовна. Ошиблись наверно, скорее всего Людмила.
– Всё правильно, Люсия она. Мама у неё из Словении, то ли сербка, то ли хорватка. Красивая девочка, премиленькая. Просто куколка. А какая умница! Что же с ней случилось, милок? Молодая ещё болеть-то!
– Простуда у неё. ОРЗ или грипп. Разберёмся.
– Ты ей от меня вареньице передай. От простуды первое средство – малина. И смотри там – не озорничай. Она девочка порядочная, одна теперь живёт. Надо будет завтра обязательно проведать.
Уходил Пал Палыч от больной постепенно, по одному шагу, после чего следовала ещё одна маленькая история из богатой событиями жизни, потом ещё одна. И ещё.
Павел беспокойно поглядывал на часы, открывал рот… и опять слушал. Неудобно было перебивать хозяйку на полуслове.
Время неумолимо приближалось к вечеру.
– Три вызова, три вызова, три вы-зо-ва. Ещё целых три, – назойливо вертелось в голове.
Двадцать первая квартира была на седьмом этаже. Нужно торопиться.
– Я уже думала, что вы не придёте, доктор. Заждалась, – прохрипела девушка с измождённым видом, каплями пота на носу и под глазами, с вымученной недугом мимикой.
Пал Палычу очень импонировало, когда называли не врачом, а доктором. Он был родом из семьи потомственных лекарей, где слово врач недолюбливали, обходили стороной, находили его неприличным, потому что намекало на недобросовестность и склонность к обману.
Его словно приласкали, погладили. Во всяком случае, настроение резко подпрыгнуло. К тому же Люсия действительно оказалась на редкость привлекательной, несмотря на серьёзное недомогание. Кроме того моментальному установлению контакта способствовал очень знакомый, до одурения приятный уютный запах.
Пал Палыч принюхался, стараясь сделать это незаметно для больной, и задумался в попытке вспомнить, когда, где, при каких обстоятельствах познакомился с этим ароматом.
– Ароматами лечусь, доктор. Мама научила. Бергамот, лаванда и можжевельник. Пока не помогает. Извините, меня немного штормит, и говорить трудно. Я присяду.
Шея пациентки была обмотана пушистым шарфом раза три, не меньше.
– Понятно, похоже на ангину. Где у вас горячая вода? Руки вымыть.
Больная махнула рукой вглубь коридора и показала шагающими пальчиками, что ждать будет в комнате.
Лицо девушки искажала гримаса боли. Без осмотра было видно, что у неё высокая температура, что её знобит и лихорадит. Ничего выдумывать не было необходимости, разве что горлышко (именно так, горлышко, он и подумал) посмотреть, да рецепт выписать.
– Зовут меня Павел Павлович. Ваш участковый. На что жалуетесь, – спросил он, разворачивая фонендоскоп, – не переживайте, я его погрел, он тёплый, – и внимательно посмотрел Люсе в глаза в надежде на её догадливость: для осмотра и прослушивания необходимо раздеться.
– Доктор, у меня только горло болит.
– Понимаю, даже вижу. Существует определённая процедура: сбор анамнеза, осмотр, прослушивание. Видимые симптомы – вершина айсберга, мне же нужна цельная клиническая картина заболевания, этиология воспалительного процесса, причинно-следственная связь. Я должен определить очаги поражения, понять, что и чем лечить, откуда растёт корень проблемы. Раздевайтесь уже.
– Доктор, – пациентка попросила жестом, чтобы наклонился, осмотрелась по сторонам, словно опасалась, что могут подслушать и прошептала, – я же девушка! А вы мужчина. Неудобно как-то.
Увидев недовольную реакцию доктора, больная кокетливо пожала плечами, – ну-у-у, ну ладно, моё смущение будет на вашей совести.
Люсия развернула шарфик, стараясь казаться неприступной и гордой, затем нехотя, словно жертва насилия, сняла свитер, с закрытыми уже глазами домашний халатик, посмотрев на Пал Палыча настолько сурово и обиженно, словно угадала единственную цель осмотра – совратить невинную жертву.
– Гм… в следующий раз предупреждайте регистратора, чтобы присылали на вызов женщину. Мне, знаете ли, не до сантиментов: меня ещё два пациента ждут. Могу не осматривать. Под вашу, конечно, личную ответственность. Я доктор, а не жиголо. Ваши прелести меня не волнуют.
Пал Палыч принялся было укладывать снаряжение в баул, когда Люсия решительно сняла ночную рубашку, оставшись в прозрачных трусиках, встала в горделивую позу, прикрывая малюсенькие груди и глаза, на которые наворачивались слёзы.
– Глаза можно открыть, я не собираюсь вас пытать. Закружится голова – можете упасть. Руки уберите. Пожалуйста. И расслабьтесь уже. Я доктор, ну! Впрочем, как хотите. Можете одеваться, если для вас это так принципиально. Не настаиваю.
– Нет-нет! Слушайте доктор, осматривайте. Вдруг у меня воспаление лёгких. Или туберкулёз. Я ещё молодая совсем, я детишек хочу. Слушайте!
Девушка смело убрала руки. При этом кожа на лице, шее и груди начала стремительно наливаться краснотой, кулачки Люсия сжала так, что на их тыльной стороне выступили сливового оттенка вены, соски налились и бесстыдно восстали, что неожиданно вывело Пал Палыча из равновесия, хотя до этого момента он пересмотрел и перещупал наверно сотни таких пациенток.
– Дышите ровно. Успокойтесь.
Пал Палыч нежно, почти невесомо прижал ниже девичьей груди акустическую головку фонендоскопа, но никак не мог сосредоточиться на прослушивании шумов и ритмов дыхания, потому что видел, даже чувствовал, как дрожит и напрягается пациентка. И оттого, что от осмотра отвлекал насыщенный аромат молодого горячего тела, который невозможно было воспринимать как часть болезни.
Мужчина медленно перевёл взгляд на окаменевшее лицо Люсии, в глазах которой метались искорки растерянности и смятения. Отлепить взгляд от её парализующих глаз было попросту невозможно.
Руки Павла медленно задрожали, словно импульс неведомой энергии включил внутри его тела некий генератор, заставляющий вибрировать, и одновременно отключил мозг от выполнения лечебного долга.
Люсия, точнее её неожиданно соблазнительная грудь, находилась от его лица на расстоянии всего лишь нескольких сантиметров.
Пал Палыч медленно, с наслаждением и страстью, словно завороженный передвигал по нежной девичьей коже, покрытой плотными мурашками, блестящую головку медицинского прибора, не обращая внимания на шумы в лёгких и чего-то там ещё. Про болезненное состояние пациентки он отчего-то совсем забыл. Перед ним была не больная – женщина в беспомощно соблазнительном виде, от созерцания которой голова шла кругом.
Время как бы остановилось, сосредоточив внимание доктора на том, что его и её сердечные ритмы зачем-то пытаются объединиться.
Доктор плавно проваливался в подобие гипнотического транса, потом и вовсе забылся, в то время как руки выполняли привычные действия, а перед глазами в подвижном густом мареве плавали горячие и упругие маленькие холмики, излучающие странную энергию, дразня восставшими так некстати спелыми вишенками, отвлекающими от принципов врачебной этики.
– Доктор, доктор, – услышал он глухо, словно издалека, чей-то зов, – вам плохо?
Пал Палыч медленно возвращался в реальность, обнаружив, что крепко обнимает Люсию за талию, уткнувшись лицом в её плотный животик.
– Простите ради бога, голова закружилась. Устал, наверно. Много работаю. Вы как, не испугались? Сейчас-сейчас, приду в себя. И продолжим.
– Что вы, доктор. Теперь я вас обязана лечить. У меня где-то бальзам звёздочка был. Прилягте, намажу вам височки. Не переживайте, всё будет хорошо. Мама меня учила, как справляться с такими ситуациями. Советую пить воду со свежим лимоном. Мне всегда помогает.
Люсия суетилась возле Пал Палыча, не обращая внимания на то, что на ней совсем ничего нет, кроме трусиков. Мужчина уже окончательно пришёл в себя, но не хотел себя выдавать. Ему определённо нравилось наблюдать, как подпрыгивают упругие грудки, чувствовать нежные прикосновения, слушать мелодичный голос.
Голос! Удивительно, но Люсия не хрипела, не обливалась потом, не выглядела больной и беспомощной. В сложившейся ситуации было что-то нереальное, мистическое. С чего бы, например, ему, взрослому мужчине, отнюдь не мальчику, было спасаться бегством в беспамятство от приступа мимолётной впечатлительности, укрываться спасительным обмороком, словно застенчивый юноша, впервые увидевший распустившийся бутон девичьей груди?
Такой силы эмоциональный стресс, направленный на пациента, тем более, на молодую женщину, посетил его впервые в жизни.
Пал Палыча трясло от избытка энергии. Его корёжило и ломало неведомое греховное влечение, нарушающее принципы врачебной этики, силу и причину которого он, дипломированный терапевт, не мог объяснить и понять. В его врачебной практике такое случилось впервые.
На настенных часах, куда Павел нечаянно посмотрел, было уже без четверти девять. Впереди два нереализованных вызова, а он лежит и глазеет исподтишка на обнажённую нимфу, вынашивая в подсознании откровенно пикантные планы, которым никогда… никогда не суждено воплотиться в реальность.
Зачем он ей такой нужен, зачем!
Тем временем женщина отвернулась, бесстыдно выставив напоказ не менее соблазнительный контур, чтобы одеться. Её грациозные, волнующие женственностью движения приводили Павла в неистовство, заставляли страдать и восторгаться одновременно.