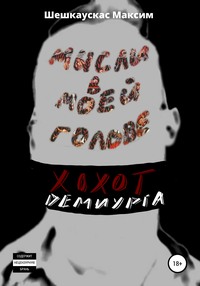Полная версия
Хохот Демиурга. Плаха и Веха
На сороковой день после его смерти меня позвали на кладбище, и чёрт меня дернул…
Его мать всё рассказывала о могиле, хвасталась, какой памятник она заказала и вскоре поставит. Она всё суетилась, убирала граблями, аккуратно раскладывала цветы, зажигала свечи, очень скрупулезно относилась даже к самой незначительной мелочи. Меня её поведение удивляло и раздражало – мать потеряла единственного сына, а вместо того, чтобы скорбеть, она всё хлопочет и хвалится этим. А потом я вдруг понял: мать потеряла своего сына. Своего единственного и навсегда. Всё, что от него осталось – небольшой клочок земли с деревянным крестом и холмиком. Она больше не сможет увидеть своего сына никогда. Не сможет поговорить, потрепать его, украдкой гордо улыбнуться… Веня живым ходил лохматым – а она, всегда считая его ребёнком, все норовила причесать, привести в порядок. Хотела причесать, да он смущался и грубил.
А теперь его нет, так пусть хоть могилка будет ухоженной. Хлопоча над землёй, она хлопочет над сыном, которого у нее больше нет.
***Теперь я знаю, Бог есть, а значит смерть – не конец. Принял ли Бог Веню? Как Он относится к самоубийцам на самом деле? А к убийцам?
Но ведь это Он руководит мной! Видимо, он устал от всех наших заблуждений, от всех, кто в них вводит. Мечты приводят к грехам. Любой смертный грех – из-за отчаянной попытки настигнуть мимолётную мечту. Если бы нас не научили мыслить…
Кстати, куда делись мои вечные спутники – щупальца? А ведь они мне больше не докучают – с того самого момента, как я совершил кару. Как так? Сколько себя помню – они всегда были рядом повсюду, я даже привык их почти не замечать. А теперь их нет. Значит Господь со мной, и как только я вступил на верный путь, Он отогнал от меня всех бесов и демонов…
Автобус останавливается. Двери открываются, пассажиры выходят и строятся за багажом. Я не встаю, багажа у меня нет, что делать дальше, я не знаю. Спешить некуда. Только когда автобус пустеет совсем, выхожу.
– Тоже путешествуешь налегке?
Из-за моей спины выныривает Ганин. Улыбается, скаля чуть ли не все свои пожелтевшие зубы. На плечах у него огромный рюкзак.
Недоумённо киваю. Зачем он меня настиг, неужели всё-таки он следующий?
– Балтийский вокзал, – довольный Ганин оглядывается, – а совсем рядом, увы, уже не действующий, Варшавский. Тот самый, на который сошёл князь Мышкин, приехав из Швейцарии. Как у тебя со временем, прогуляемся?
Молчу, рассеяно смотря поэту в глаза.
– Тебе, я посмотрю, совсем плохо! Мы в ответе за тех, кого приручили, – Ганин смеется, кивая на вывеску «Пивной Бар» у вокзала, – пойдём? Угощаю.
И в своей манере, не дожидаясь ответа, направляется к бару. Я в своей манере, не собираясь отвечать, иду следом.
Бар находится справа от главного входа в вокзал на втором этаже привокзального здания – массивная дубовая стойка, кругом на стенах фотографии футболистов и «зенитовская» атрибутика – футболки, шарфы… Всё-таки что-то в интерьере заведения выдает шалман, может, пьяная «в дрова» троица в углу бара.
Садимся за столиком у окна – на столешнице лужица разлитого пива, но это ещё самый чистый из осмотренных нами. Подходит официантка, она же и бармен:
– Чего вам? – спрашивает нервно, демонстрируя, что клиент, может, и прав всегда, но не в этом заведении.
Ганин улыбается, видно – окружающая обстановка приносит ему удовольствие.
– Сто водки, а приятелю… Будешь водку?
– Лучше пива…
– Какого? – барменша-официантка резко оборачивается ко мне.
– Слышал, местное пиво не очень? – неуверенно спрашиваю.
Официантка пожимает плечами:
– Я пиво не пью… Фигура…
Барменша-официантка комплекцией напоминает пузатый пивной бочонок.
– А какое есть местное? – спрашивает Ганин.
– «Очаково», «Васька» домашний, красный, тёмный…
– «Василеостровское» бери, – подсказывает Ганин.
Киваю.
– Всё? – уточняет барменша-официантка и тут же, не дожидаясь ответа, уходит.
– Какие планы? – интересуется поэт.
– Там видно будет.
– Туманно… А я хочу осмотреться, понять, что к чему – кажется мне, в России наступают времена поэтов, грядёт революция – чуешь ее запах? Ты не подумай, все, что ты от меня слышал до этого – пьяное дурачество. Я и серьезные вещи писать могу.
И не дав вставить слова, декламирует:
Рьяные багряные
Копья, струи, жерди.
Языками рваными
Пьяные сюжеты.
Время болью впитывать,
Ранами дышать.
Сердца ход гранитовый.
Рано умирать…
– А зачем тебе в Питер? – не понимаю. – Постил бы стишки из Риги.
– Зачем? – Ганин немного обижается, но совладает с собой. – Мои стихи надо вслух читать, звучание важно – разве не услышал?
Что сказать, не знаю, стих мне понравился, но признаться в этом, да ещё и при моем пути…
– Ты в Питере раньше был?
Кивает:
– Тыщу раз. А ты?
Мотаю головой.
– Ну, ты даёшь! Вещей с собой нет, в городе не был, что делать не знаешь, на туриста не похож – не обижайся, но странный ты какой-то!
Приносят выпить. Пиво вполне ничего. Поэт поднимает рюмку и хочет произнести тост, но у него звонит телефон.
– Так, извини, – Ганин опускает рюмку на стол (который так и не протёрли), отвечает на звонок. Долго слушает, потом что-то говорит, суетливо и взволнованно встает и отходит к окну.
Делаю ещё несколько глотков, дожидаясь поэта и соображая, что же с ним делать… Откровение все не является.
Ганин, не отрывая ухо от телефона, подходит и, прикрывая микрофон рукой, говорит:
– Веха, всё завертелось слишком быстро. Извини, надо бежать, выступление через двадцать минут.
Протягивает мне руку и, пока я соображаю, что происходит, не дожидаясь рукопожатия, залпом выпивает половину стопки и уходит.
Когда я допиваю своё пиво, остатки водки поэта и расплачиваюсь, от моей единственной тысячи остается шестьсот шестьдесят рублей…
На привокзальную площадь выхожу, не понимая, что делать дальше. Кругом снуют люди, каждый с какой-то целью спешит, мне идти некуда. Смотрю на ларёк с шавермой, перевожу взгляд в небо, на белый след пролетающего самолёта, и откровение наконец посещает меня…
Всё становится понятным – я вижу достаточно крупного человека, будто на расстоянии вытянутой ладони вижу его красное лицо – высокий лоб, выпученные глаза, чёрной сажей размазанную по щекам щетину. Вижу его захламленную квартиру, даже маршрут до неё, включая цвет ветки и нужную станцию метро, хотя понятия не имел, что в метро есть ветки, и они цветные.
На эскалаторе в подземелье спускаюсь спокойным – хорошо, когда Господь руководит тобой…
Плаха 2. Приземленный Банане и космос без Гагарина
МКАД не лучшая тропа для прогулок. Иду вдоль обочины по потоку и поминутно оглядываюсь, не раз возникало желание развернуться, вернуться к автомобилю (если его ещё не эвакуировали, конечно), позвонить на работу, сказать, что болен, взять отгул, отпуск, отдохнуть и всё тщательно обдумать.
Уже не раз я взывал к себе остановиться и больше не пороть горячку. Сам же обрываю свой трусливый голос, успокаиваю, доказываю, что без горячки никак нельзя, что без горячки закончится тем, что завтра я снова буду на работе, а послезавтра, и уже никогда, не прощу себе слабохарактерности. Не прощу того, что не решился поддаться сиюминутному порыву.
Чтобы взбодриться, я представляю, как буду писать книгу. О чём она будет, пока не понимаю, но уже знаю, как она будет написана. Она будет как джаз. Как джазовая мелодия – пульсирующий ритм задаст тихий контрабас; подхватят духовые – труба и внешне похожий, но совсем другой саксофон. И импровизация – свободный звук под заданных контрабасом ритм.
И вот под сигналы проезжающих мимо автомобилей я оставляю не только МКАД, но и сомнения. Но всё же даю высказаться и отчасти прислушиваюсь к рациональному себе. После совещания всех внутренних голосов план созревает такой: бросать свою прежнюю жизнь определенно нужно, и определенно в данный момент, но чтобы с голоду не умереть только что рождённым в новой ипостаси, во-первых, надо продать машину, во-вторых, сдать в аренду квартиру.
Решить обе задачи поможет Анатолий Викторович: Тоха – для знакомых, продавец по жизни.
Тоха круглый год носит загар, будто только что приехал с курорта, хотя просто посещает солярий. Тоха из тех самых «понаехавших», но утверждает, что родом из какой-то купеческой династии. Ещё он утверждает, что в его роду много евреев, но слух этот ничем не подтвержден. Недавно Тоха твёрдо решил жениться – спутницу жизни он выбирает по родословной, ищет исключительно коренную московскую еврейку, говорит, что так и из области выберется и нужными связями обзаведётся. Тоха добрый для своих и жадный для чужих. Беда лишь в том, что грань между своими и чужими у него размыта. Тоха – тот самый приятель, который пригнал мне из Европы машину и помог мне её растаможить. Который неделю назад интересовался, не сдаёт ли кто в моём районе квартиру. И, наконец, который звал вечером в бар.
Набираю номер, вместо гудка «Менеджер» группы Ленинград – Тоха относится к песне всерьез и безо всякой иронии…
– Перезвоню минут через пять, лады? – тараторит в трубку и обрывает связь.
Подхожу к «Выхино». Закуриваю и решаю подождать. Вокруг кипит жизнь – лавочники, в основном гости из Средней Азии, впаривают товар уставшим, хмуролицым москвичам. Дождь давно прошел, стоит непереносимая духота и столпотворение. Моё внимание привлекает черноволосый мужичок в вельветовой куртке с кудрявой чёрной бородой-лопатой. Мужичок щурится, обливается потом и волочет за собой огромную сумку…
Звонит телефон.
– Тоха, привет, извини, что отвлекаю, я по делу.
– Вить, здравствуй! Не, ничего! У нас на таможне проблемы… Белорусский сахар не нужен?
– Сахар? Зачем? Нет, спасибо…
– Ну, понятно, как там у тебя дела вообще?
– Нормально всё, слушай, Тоха…
– Кстати, я на неделе в Питер, а оттуда в Финку… Тебе чего-нибудь надо? Будешь заказывать?
– Не, спасибо. Я чего хотел-то…
– Так рассказывай! В бар идём?
– Тоха! Мне срочно нужно уехать! Сегодня же! Нужны деньги! Хочу машину продать, квартиру сдать, поможешь?
– А что у тебя? Помогу… Давай вечером поговорим…
– Машина сейчас, скорее всего, эвакуирована – надо выкупить. Ключи и документы могу вечером передать, доверенность сделаю. Квартира меблированная, «Цветной бульвар», отличное состояние – был у меня, сам видел. Почём сдавать, решать тебе. Как сдашь, деньги мне на карту скинешь. Давай сегодня в девять на Ленинградском вокзале?
– Замётано, Вить! А что, проблемы у тебя? Я, если что, людей нужных знаю – связать?
– Всё, хорошо, Тоха. Всё просто отлично! Давай, до вечера.
Не успеваю положить телефон в карман, как раздается новый звонок.
– Да, Тоха, что ещё?
– Плаха, здравствуй! – уже звонивший мне сегодня скрипучий голос.
– Добрый день! Но вы ошиблись, я не Плаха, я Виктор…
– Плаха, уже слишком поздно… Ты умрёшь, Плаха…
Настроение мне так просто не испортить, принимаю подачу:
– А знаешь что? Я уже умер – вот только сегодня. И возродился как феникс…
– Теперь ты Плаха, а Плаха скоро умрёт…
– Все мы умрём.
Закуриваю. Голос молчит, я тоже. А дальше что?
– Так звонишь-то ты зачем?
– Ты будешь много заблуждаться, идти неверным тщеславным путём, а потом умрёшь, Плаха. До встречи в Петербурге…
Кладет трубку.
Гусиная кожа на руках… Не позволю какому-то мудаку меня запугать! С Петербургом он угадал, хуй с ним! А «Плаха» – отличный псевдоним. Спасибо ему за находку…
***Перед тем, как сдавать, надо проведать квартиру – возвращаться туда в ближайшее время не намерен – надо убрать или выбросить личные вещи, незачем новому жильцу знакомиться со мной заочно…
Давненько не передвигался в метро. «Выхино» – станция наземная, открытая. Тут же станция пригородных электричек. Первый и второй поезд пропускаю, так как нет мест, в третий толпа сама меня проталкивает.
Дверь набитого вагона никак не закрывается, препятствует огромная сумка. Пассажиры зудят недовольством, искажаются в гримасах и направляют поток злобы на раздражитель. Кажется, будто метро видоизменяет людей, высасывает энергию и наполняет злобой. Но на меня магия в этот раз не действует – стоило принять решение, как я почувствовал себя обособленным, другим – жизненные силы приливают, и никакая давка или спешка не могут их отнять. Спешки для меня больше нет, давка же временное беспокойство, от которого в любой момент по собственному желанию могу избавиться, просто выйдя из вагона. У меня больше нет графика и нет места, где я должен быть. И я знаю, что назавтра сегодняшний день не повторится.
Наконец хозяин сумки проталкивается в вагон, и двери закрываются. Поезд трогается. Создавшим затор оказывается тот самый бородач в вельветовой куртке, недавно привлекший моё внимание. Он тихо извиняется перед всеми разом, лезет в сумку, из которой под гул вагона достает книгу, откашливается и глашатаем говорит:
– Уважаемые пассажиры…
Вагон качает, и бородач валится на похмельного красномордого мужика, который его с силой отталкивает на тучную женщину. Женщина причитает, бородач на все недовольства не обращает внимания, будто не понимая, насколько он не к месту:
– Спешу вашему вниманию представить новый эзотерический роман Жоржа Банане «Космос без Гагарина». В романе освещены проблемы бытия и небытия, описано, как посредством петрушки и обыкновенной сигареты выйти в астрал и прочистить космические каналы. Также в книге выложено интервью с Юрием Гагариным, которое он впервые за шестьдесят лет согласился дать во время своего космического полёта. Книга нигде не издавалась, у вас есть уникальная возможность приобрести авторский экземпляр всего за восемьсот рублей! По себестоимости, уважаемые пассажиры – в цену заложены только типографские услуги и незначительный авторский гонорар.
Бородач пытается пройти вглубь вагона, бубня, будто мантру: «Приобретаем книгу… приобретаем книгу…» – но не может пробиться сквозь толпу.
Остановка на станции, бородач вздыхает, толкая пассажиров и выслушивая от них упрёки, запихивает книгу в сумку и пытается выйти. Я, подчиняясь очередному порыву, проталкиваюсь к выходу за ним.
– Продайте книгу! – восклицаю, не зная, как начать разговор, а главное, зачем мне этот разговор нужен.
Поезд закрывает за моей спиной двери.
Бородач бегающими глазами суетливо осматривает меня с головы до ног.
– Восемьсот рублей, – кричит он недоверчиво, но заглушая шум удаляющегося поезда.
– Уверен, она того стоит, – тянусь в карман за бумажником.
Взгляд бородача меняется: из смущенно-недоверчивого за долю секунды он превращается в хитровато-самодовольный.
– Тыща с автографом автора, – глаза сужаются, образуя сеть морщин вдоль переносицы.
Достаю из бумажника две пятисотки.
– Кому ставить автограф? Имя? – спрашивает, пытаясь справиться с заевшей молнией сумки.
– Плаха.
– И всё? «Плахе»? Ладно, от себя что-нибудь добавлю.
Молния поддается, вижу стопки свеженьких книг с Гагариным в перечеркнутом красной линией круге на обложке.
– Как продажи? Неужто вся сумка за день?
– Одни убытки, знаешь… Давай на «ты»? Вот ты, Плаха, последний, кому я продал книгу по прежней цене… Мне, знаешь ли, нет возможности тягаться с крупными издательствами, которые все, скажу тебе по секрету, принадлежат одному человеку. И ты знаком с этим человеком и будешь знаком ещё минимум дюжину лет, обещаю. Это он утверждает авторов, не прямо, разумеется, через советников. И авторов на самом деле гораздо меньше, чем ты полагаешь – всё, что сейчас на слуху, пишут пять-шесть человек, работающих в кремлёвском кабинете. Цензура покруче, чем при совках будет. И насколько качественно я бы не писал – мне не пробиться, потому что некуда. Приходится самому печатать, тратить деньги, а с продажами одни убытки – вот станцию свою проехал, а на «Выхино» опять плати! И почему так? Ничего до ума довести не могут. И высокую литературу они загубят! Что может сделать пара энтузиастов против правительственной машины?
– Я как-то не понимаю… Я вне политики…
– А зря, все мы в ней живём! Вне политики! – повторяет пренебрежительно. – На вот, держи.
Бородач протягивает книгу, открываю, на внутренней стороне обложки написано: «Плахе от Банане» – не много же бородач от себя добавил…
– Кстати, если понравится «Космос», там на последней странице моя электронка есть – можешь скинуть мне отзыв, как выйдет новый роман – купишь одним из первых.
– И о чём будет роман?
– О, это история о зомби, заполоняющих планету. И про героя, у которого есть шотган, но нет патронов, чтобы его зарядить. В книге много разговоров, мало действий, герой флегматичен, умрёт от чахотки, наверное… На самом деле это пародия на социум, который приводит к импотенции, ну, ты же понял, нет? Хе-хе!
– Приблизительно. Я вообще хотел спросить, как проходит процесс написания? Дело в том, что буквально сегодня тоже решил попробовать…
Банане вновь бегает по мне глазами, в это раз как-то ревностно. Что-то обдумывает и улыбается доброй, отеческой улыбкой:
– Ты водку пьёшь, Плаха?
– Пью. А это здесь причём?
– Я живу рядом – поможешь сумку донести, возьмём пузырь, устрою тебе мастер-класс с литературным чтением. Как тебе идейка?
– А что, неплохо. Во времени я не ограничен.
– Тогда вперёд!
Банане смотрит то на меня, то на сумку выжидающе. Понимаю, что только что сам добровольно записался в грузчики, перекидываю ремень через плечо и поднимаю поклажу, в которой, по ощущениям, килограммов тридцать.
– Тут недалеко, – подбадривает новый знакомый, – из метро на проспект выйдем, заскочим в магазин и сразу к мясмебели пойдём.
Несу сумку молча, тихо пыхтя себе под нос. Переполняет обидой на самого себя, так легко превратившегося в носильщика, и на Банане, так легко смирившегося с несправедливо распределившимися ролями. Обида какая-то детская, вслух бы я её ни за что не высказал…
***После того, как я купил в супермаркете шведский Absolut, мы поднимаемся на третий этаж – к Банане в квартиру. Мясмебелью, которую он упоминал в метро, оказалась громадная, во весь дом вывеска «МИАССМЕБЕЛЬ», слева от которой и располагается его жилище.
Банане звонит в одну из квартир на лестничной площадке.
– Сейчас, сейчас всё будет… – тараторит он суетливо и робея, – сумку в прихожей можешь оставить, и сразу за мной на кухню. Там посидим, понял?
Банане решается позвонить ещё раз, но в последний момент как ошпаренный отнимает руку от звонка.
С интересом наблюдаю за переменами в нём. Понятно, что он боится того, кто нам сейчас откроет. Он часто оглядывается на меня, стыдливо заглядывает в глаза, надеясь найти в них отблески понимания. Я стою спокойно, сопереживать его страхам кажется глупым.
– Гриша, это ты? – женский голос за дверью.
– А ты кого-то ещё ждёшь? – спрашивает Банане каким-то неестественным голосом, по-прежнему оглядываясь на меня и стараясь улыбнуться: выходит натянуто и фальшиво, будто нарочно храбрится, чтобы мне что-то показать.
Дверь открывается. На пороге стоит полноватая женщина в домашнем халате. Почти квадратный скулистый подбородок, глубоко посаженные чёрные глазки, русые волнистые волосы ниспадают чуть ниже широких плеч.
– Гриш, ты что? Ой, – она запахивает халат туже, – а кто это с тобой?
– Это Плаха, – Банане рукой указывает на меня, – Плаха, это Ниночка. – представляет он даму.
– Плаха тоже писатель, мы с ним посидим немного на кухне, ладно?
– Посидите, – Ниночка, не таясь, изучает меня, – только без меня, я лучше полы домою.
Банане входит в прихожую, сбрасывает туфли (раздается запах кислого пота), кивает на дверь в конце коридора и растворяется за ней. Сбрасываю с плеча сумку, разуваюсь и следую за писателем.
На маленькой кухонке стол, представленная к нему угловая тахта, два табурета. Ещё кухонный шкаф, забитая грязной посудой раковина и холодильник, к которому на сувенирный магнит с пейзажем Крыма прикреплен счёт за квартиру на имя Григория Картошкина. Счёт с задолженностью за прошлый месяц…
На столе уже бутылка Absolut’a и две рюмки – видимо, Банане не раз встречает гостей таким образом и действия по скромной сервировке у него доведены до автоматизма. Уже при мне он извлекает из холодильника трёхлитровую банку засоленных огурцов. Вот и вся закуска.
– На мою самку не обращай внимания, сам знаешь, их дело какое, – говорит Банане, разливая по рюмкам водку.
– Самку? – переспрашиваю, рассеянно наблюдая, как жидкость растекается по сосудам.
– А ты что, не знал? Люди делятся на самцов и самок. Самки отличаются тем, что у них нет яиц. Самок гораздо больше, потому что и среди самцов они есть. Правда, бывает, и среди самок самцы попадаются… Ну, будем! – выпивает Банане и подцепляет пальцами огурец из банки.
На кухне душно, тёплая водка разливается подавляющим всякое стремление жаром. Банане покрывается красными пятнами, но наливает ещё.
– Скажи, – не удерживаюсь, – а вот то, что мы в середине дня водку пьём, не помеха твоему роману?
Банане размышляет:
– Знаешь, мысли об Абсолюте и Большой Любви не мешают пить из горла литровый Absolut и ебстись на кафеле, – кивает за стену, – вот с ней. Процессы протекают параллельно. За Абсолют, в общем.
Вновь пьем, и я с разрешения хозяина закуриваю. Дым кажется чересчур едким и дерет горло…
– Так я же тебе почитать обещал, – вспоминает, – так… сейчас!
Выходит, оставляя меня один на один с табачным дымом, но вскоре появляется с кипой исписанных бумаг:
– Всё я тебе читать не буду, начну со вчерашнего.
Наливает водку, откашливается, садится на табурет и начинает:
«Замечательная вещь – женская грудь! И детишек покормить, и мужу поиграться»
– Хотя нет, не этот кусок, – мямлит краснеющий Банане и шуршит страницами, – ну, вот, хотя бы:
«После бурной ночи с Настасьей Гриня утвердился в своей давней мысли – он окончательно согласился с собой, что есть женщины простые, как соединительный карабин, к звену защёлкивающиеся без всяких проблем, и есть сложные – которых, как мокрую синтетическую верёвку, нужно суметь связать хитрым узлом, чтобы не развязалась и не выскользнула…»
– Тут вот пока этого нет, – Банане прерывает чтение, – но я потом добавлю, что нагота красива, всякая одежда скрывает естество природы и делает барышень неуклюжими. Ну, давай! «За красоту!»
Пьем, Банане продолжает говорить, жуя огурец и одновременно наливая:
– Моя же самка мне внушить пытается, что вся красота, та, что по телику – силикон и подделка, что нет идеальных форм, прикинь?
Смотрю на него хмуро.
– Тебе, как писателю, полезно знать будет, что после секса с любовницей Бальзак сказал, что за ночь он целый роман утратил. Давай! «За Бальзака!»
Настроение становится препаршивейшим, мысли давят.
– Ты что, считаешь это свинством? То, что я сказал про самку на полу? Эстет весь из себя? – вдруг обижается Банане после мрачного раздумья. – Что как так можно, с некрасивой-то?
Растерянно мотаю головой:
– Нет, я совсем не об этом думаю… Я бы про красоту другое написал…
Молчу, собираю мысли.
– Знаешь, кажется, нет красивого и некрасивого. Плохого и хорошего. Есть твоя личная оценка предмета или же поступка. Всё создано природой, и это всё не виновато, если ты считаешь это безобразным.
Банане слушает, закатив глаза куда-то вверх и вправо. Меня колет необычной ревностью, а что если он умыкнет мою мысль в свой текст?
– Может, что-то в этом и есть, – говорит он тем временем, – глубже копнуть, конечно, нужно, мыслить не так поверхностно… Касаемо субъективной оценки реальности в целом. Например, мне нравится моя квартира, нравится моя жизнь. Но с появлением гостя я, как писатель, стараюсь взглянуть на все его глазами… И не всегда картина свежего восприятия меня устраивает… Кстати, так же со словами даже мои нажористые, свежие мысли в тексте иногда выглядят глупой пошлостью, перечитываю, бывает, и становится стыдно, краснею…
Неловкая пауза, чтобы с нее себя снять, спрашиваю:
– Ты Бальзака упоминал… Классику любишь?
– Классику? А как же! Все настоящие писатели должны любить классику, разве не так? И Льва Толстого больше остальных люблю. А знаешь, за что? Да за то, что у него все герои с гнильцой какой-то! Не замечал? А вот не все замечают! – машет он рукой. – А они с гнильцой, да – все до единого! В детстве меня это напрягало, и я Толстого вообще читать не мог. А потом как-то раз с бодуна не спалось – всё думал… И вдруг осознал: да Толстой – он гений! Да не бывает других людей! Вот! Вот то, что он показать хотел! Вот зачем писал вообще! Чтобы показать – что бы мы ни делали, о чем бы ни думали, к какой бы духовности ни стремились… Все с гнильцой! Я, когда осознал – разрыдался пьяными слезами. Нет ни единого чистого человека! Все с гнильцой – запомни! С гнильцой!