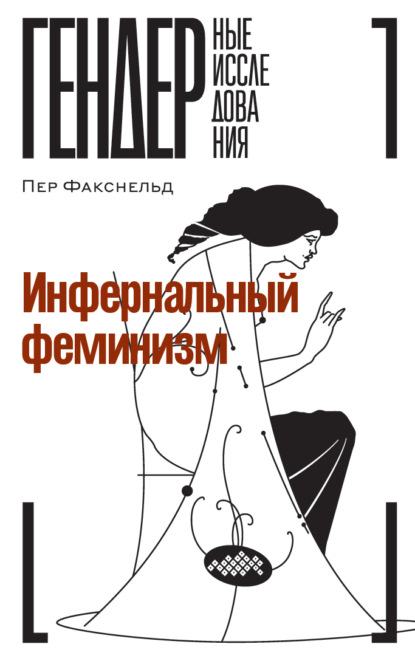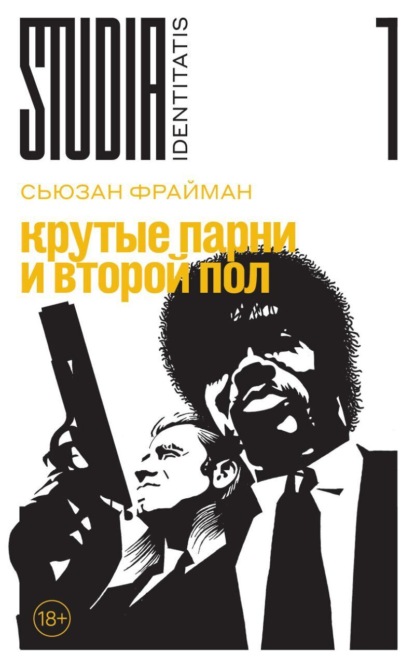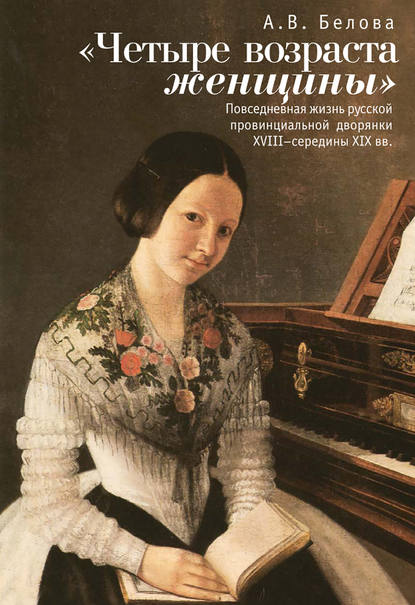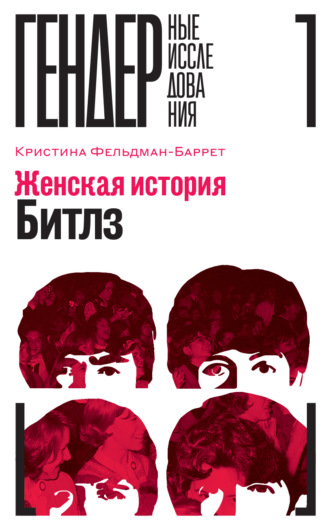
Полная версия
Женская история The Beatles
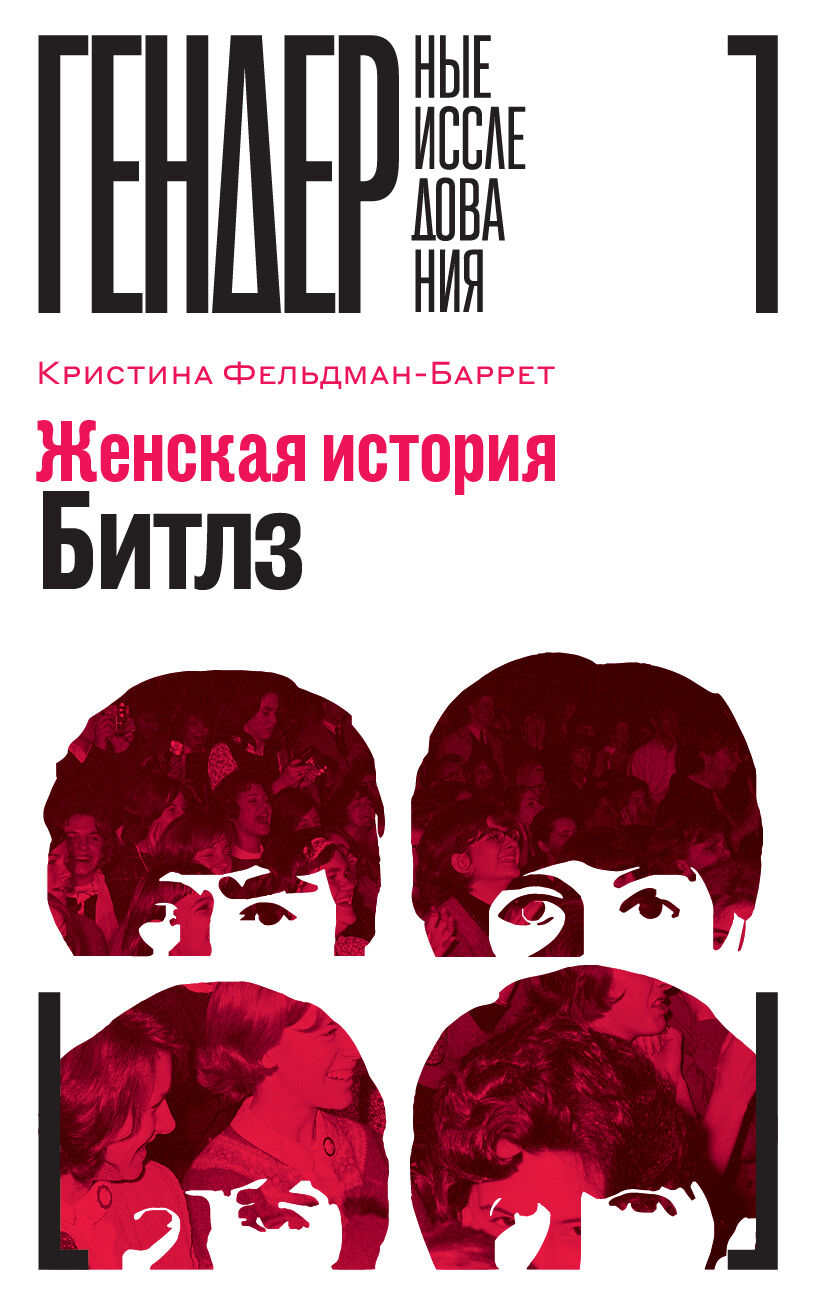
Кристина Фельдман-Баррет
Женская история Битлз
Слова благодарности
Подбор фактологического материала для монографии и работа над ней требуют не только времени и авторской вовлеченности, но также доброты и великодушия всех причастных и поддерживающих автора. Поскольку точкой отсчета создания книги следует считать мое знакомство с группой Beatles, то в первую очередь я должна поблагодарить свою сестру Марианну Фельдман-Левайн. Именно она содействовала тому, что «Битлз» стали частью нашего детства, и именно Марианна подтолкнула меня к написанию этой книги. Полноценное исследование началось в ноябре 2016 года с поездки в Лондон и Ливерпуль, которая стала возможной благодаря финансовому содействию Гриффит-центра социальных и культурных исследований и факультета гуманитарных наук, языков и социологии австралийского Университета Гриффита. Интервью, которые мне удалось взять во время этой поездки, и документальные источники, обнаруженные в Британской библиотеке и Центральной библиотеке Ливерпуля, а также артефакты, найденные в архивных собраниях Ливерпульского университета Джона Мора, таких как «Феморабилия» (искусство, фотография, мода) и архив Барри Майлза, переоценить невозможно.
Я признательна Лее Бабб-Розенфельд, моему редактору в издательстве «Блумсбери»: она с самого начала поверила в эту книгу, и мы замечательно потрудились вместе. Я также благодарна за отзывы тем, кто рецензировал заявку на книгу и окончательный вариант рукописи. Энди Беннетт, Сара Коэн, Жаклин Эварт, Рейнолд Фельдман, Кори ЛеШа, Шан Линкольн, Барбара Пини, Хитер Савой Миллер, Кевин Тир и Мэри Сарачино Зборай – спасибо вам за разнообразное и очень плодотворное содействие. И я бесконечно благодарна своему мужу Ричарду Барретту, который выслушивал, обсуждал случавшиеся проколы, готовил замечательные ужины, встречал меня битловскими песнями-серенадами и стоически переносил одинокие вечера и выходные. Для меня нет ничего важнее его любви.
И самое главное, моя сердечная признательность всем женщинам, поделившимся со мной своими замечательными «битловскими» историями. Я с таким наслаждением открывала для себя каждую из них, когда собирала материал для книги, а потом писала ее. В их чудесных захватывающих рассказах нашла отражение та самая щедрость времени и духа, которую я хочу сохранить навсегда. Слова бессильны выразить мою благодарность. И от имени всех читателей этой книги мне бы хотелось, чтобы все, напечатанное на этих страницах, пришлось им по сердцу.
Предисловие
В истории «Битлз» всегда ощущалось сильное женское присутствие. Еще до того, как группа из английского портового города Ливерпуль превратилась в тех самых великих и ужасных битлов, вокруг нее сформировался нарратив, замешанный на влиянии мам, тетушек, кузин, а также местных преданных фанаток. Звуковым ландшафтом битломании и по сей день остаются оргиастические ликующие вопли. Вокруг битлов всегда было множество женщин: тут есть гламурные возлюбленные и «проблемные» жены, идеальная любовь и любовные разочарования. Многие песни часто адресованы женщине или обрисовывают ее как вполне конкретную личность, – этакая пестрая галерея необъективированных женских образов.
Что немаловажно, в своем исследовании я прослеживаю хронику битловского влияния и женской самоактуализации, когда музыка «Битлз» послужила источником творческой и профессиональной мотивации для их женской аудитории. Мы увидим, как девушки и женщины стали активными участницами одной из самых продолжительных историй в рок-музыке, которая длится даже после того, как сама группа «Битлз» прекратила свое существование. Можно сказать, складывается своеобразный эпос, восприемник множества herstories1 – исторических нарративов «от первого лица женщины»2.
Начало 1960‐х, когда «Битлз» заявили о себе, совпадает с очень важной страницей женской истории: ростом второй волны феминизма. По мере того как этот социальный тренд обретал очертания в родимой битлам Великобритании, англоязычных странах и всей Западной Европе3, девушки и молодые женщины все чаще задавались вопросом о том, какой путь им выбрать в жизни. Существуют ли границы для их чаяний – личных или профессиональных? Возможны ли какие-то иные способы реализации для женщины, кроме роли жены и матери? Хотя «современная девушка», эмансипированная как социальный субъект и потребитель, в индустриальных странах играла заметную роль на протяжении всего XX века, 1960‐е открыли ей новые возможности для образования, отдыха, отношений, творчества и профессиональной карьеры. Размышляя об этом периоде, английская писательница Сара Мэйтланд однажды заметила, что «…с той точки, где мы сейчас, пятидесятые воспринимаются как десятилетие женственности, а семидесятые – как десятилетие женщин». Она развивает свою мысль, стремясь осмыслить эту разницу: «Что же произошло в течение этих десяти лет, приведших к такой перемене?»4
Рискну предположить, что одной из «важных вещей, случившихся в жизни каждой девушки или молодой женщины» в 1960‐е, стали «Битлз». Как культурное явление ливерпульская четверка каким-то образом смогла заставить представительниц этого поколения осознать себя и как личностей, и как отдельных членов общества. Энергичность, характерная черта битломанок, проявлялась в их не менее энергичном стремлении к новым способам выразить себя5. На заре поп- (позже рок-) карьеры звучание «Битлз» отличали незатейливый мелодизм, веселость и манящий лиризм. Четверо парней, игравших в группе – Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, – не просто казались дружелюбными и веселыми; за каждым стояла захватывающая история «пути наверх», причем путь этот начинался с социальной позиции маргинала6. История успеха превратила «Битлз» в кросс-гендерные ролевые модели не только для так называемых битломанок, но и для всех поклонниц, стремившихся что-то разглядеть в их истории. Этот нарратив, зародившись на заре 60‐х, не заканчивается в 70‐е, когда «Битлз» распались. Влияние группы на женские судьбы продолжается и в следующем, XXI веке. Таким образом, эта книга призвана глубже проанализировать опыт трех поколений. И хотя не все женщины, упомянутые в ней, четко ассоциируют себя с какой-то конкретной волной феминизма, доносящиеся отголоски социальных сдвигов, повлиявших на женщин и гендерные отношения в 1960‐е и 1970‐е, и сейчас играют свою роль.
Влияние «Битлз» на женскую аудиторию можно проследить и сегодня по мере того, как у молодого поколения по-прежнему вызывает интерес музыка и биографии участников знаменитой группы. Американская исполнительница Билли Айлиш (2001 г. р.) с гордостью рассказывает, что ее первое выступление на конкурсе непрофессиональных музыкантов было именно с композицией «Битлз» Happiness Is a Warm Gun (1968). В Ливерпуле две юные журналистки продолжают дело газеты «Мерси Бит»7, размещая в подкасте The Beatles City интервью с Полом Маккартни, Питом Бестом и прочими знаковыми фигурами.
Авторы-миллениалы и зумеры размышляют в контексте феминизма, как современные молодые женщины обращаются к творчеству музыкальной группы, состоявшей из одних мужчин, чьи песни были написаны полвека назад8. Подобные изыскания подтверждают не только актуальность повестки «женской истории вопроса», но и то, что неотъемлемой частью этого нарратива является межпоколенческий аспект. Посмотреть на всем известную историю свежим взглядом – значит сконцентрироваться на разноплановых «отношениях», которые складывались и продолжают складываться у женщин с Битлз. В большинстве своем эти отношения являются парасоциальными, то есть развивающимися на расстоянии посредством популярной культуры. Тем не менее к подобным женщинам могут быть причислены первые поклонницы «Битлз», встречавшиеся с музыкантами или лично с ними знакомыми, а также члены их семей, подруги, любимые девушки и жены, которые знали их ближе всех.
Меня всегда поражало, что в контексте истории ливерпульской четверки такой прицельной «женской историей» «Битлз» никто специально не занимался. Более того, за редкими исключениями, весь корпус написанной о «Битлз» литературы – по сути, вся историография группы – сливается в хор исключительно мужских голосов. Историк Эрин Торкелсон Вебер, отдельно останавливающаяся на этом моменте в своей книге The Beatles and the Historians: An Analysis of Writings about the Fab Four («The Beatles и историки: анализ написанного о легендарной четверке») (2016), справедливо отмечает, что авторство практически всех текстов, образующих историографию группы, принадлежит английским и американским рок-обозревателям из поколения беби-бумеров, причем все они мужчины. По ее мнению, для полноты картины необходимы новые авторы и новые голоса: «Авторитетная оценка музыки и творческого пути «Битлз» не может и не должна быть прерогативой исключительно авторов-мужчин, представляющих какое-то отдельное поколение или определенную профессию. Авторское разнообразие, предполагающее различные точки зрения, – это сильная позиция, которой битловской историографии отчаянно не хватает»9.
И в самом деле, начиная с авторизованной биографии Хантера Дэвиса 1968 года, битловский нарратив формировался преимущественно мужчинами. Об этом знает каждый, кто когда-нибудь рылся в книгах, посвященных группе, а их немало. Но этот факт достаточно показателен для более масштабного принципа, доминирующего в истории рок-музыки.
Музыкант и исследователь Хелен Реддингтон отмечала такой же перекос в вопросах авторства и фокусизации при анализе британского панка, эпоха которого пришлась на 70-е. Ее книга о женщинах панк-музыкантах и представительницах панк-сообщества показывает, что «…без попыток восстановить отсутствующие фрагменты история не будет полной». Равно как ее целью было «…скорректировать неправильные представления о том, что панк-культура могла значить для женщин (а в те времена, конечно же, девушек) инструменталисток, причастных к ее революционному естеству»10. И у меня в начале работы были схожие намерения. Однако центром этого исследования не являются исполнительницы, испытавшие на себе влияние «Битлз», это попытка более широко взглянуть на то, как «Битлз» резонируют с женской аудиторией. Как и в исследовании Хелен Реддингтон, это требует выхода за рамки стереотипных образов и тропов. В контексте «Битлз» «истеричные» фанатки и назойливые возлюбленные или жены – ходы столь же ограниченные и ограничивающие, как навязшие в зубах «молодые панк-чувихи c „рваными“ осветленными вихрами, расплывшимися вокруг глаз „смоки“, в сетчатых чулках, на высоченных шпильках»11 – стереотип, который Реддингтон систематически отмечала в историях, связанных с панк-культурой.
Отправной точкой этой истории, конечно же, будет Ливерпуль. Представив себе город того времени, мы тут же увидим и раннюю зарю подростковой свободы, как местные девчонки самостоятельно гоняют по графству Мерсисайд, чтобы попасть на выступление «Битлз». Пройдет несколько лет, и в 1963 году мы познакомимся с юной австралийкой, живущей на Фиджи, в чью неофитскую и практически отшельническую битломанию внезапно врывается привет от Ринго Старра. Конец 60‐х, и мы видим поклонницу «Битлз» из Бразилии, которая чуть ли не каждый день дежурит у лондонских зданий студии EMI и компании Apple Corps. Там у центрального входа она регулярно сталкивалась с Джоном Ленноном и Йоко Оно. Сначала поклонница ревновала своего кумира, но потом ее отношение к Йоко изменилось, все трое стали общаться по-дружески, и возлюбленная Леннона открыла себя с теплой, сердечной стороны.
Поколение сменяет поколение, появляются и новые истории. В середине 80‐х американка заражается любовью к «Битлз» от своей любимой тетушки и вскоре сама становится их горячей поклонницей. По ту сторону железного занавеса 9-летняя гэдээровская школьница случайно слышит She Loves You и понимает: жизнь уже не будет прежней. Она взрослеет, и, так или иначе, перипетии ее профессионального становления неразрывно связаны с гамбургской страницей в истории «Битлз».
Виртуальное путешествие во времени и пространстве снова возвращает нас в Ливерпуль: на дворе уже 2014 год, перед нами две сестры-близняшки из Вены, спускающиеся по лестнице обновленного «Каверн-клуба» с гитарными футлярами в руках. Совсем скоро им предстоит покорить его аудиторию собственными песнями и каверами ливерпульской четверки, благодаря которой эта концертная площадка вошла в анналы. И пусть родились наши исполнительницы в 1994 году, когда с момента наивысшего всплеска битломании прошло целых тридцать лет, но любовь к песням «Битлз» вкупе с музыкальным талантом привели сестер на сцену «Каверн-клуба».
А меня стать автором этой книги заставил трепет перед «Битлз», который я испытываю всю жизнь, а также моя специализация по истории молодежной культуры. Я родилась в 1971 году, и моя битловская история начинается с коробки пластинок-сорокапяток, выпущенных в 60‐х годах, которые нам с сестрой отдали в середине 70-х. Среди них было несколько синглов «Битлз», выделявшихся внешне благодаря желто-оранжевому закрученному лейблу Capitol Records. Мне сразу запали в душу их песни, особенно ритмичные хлопки в ладони и припев в Eight Days a Week и гипнотический эффект от композиции Rain. Чем больше я узнавала про «Битлз», тем больше у меня возникало вопросов. Каково это было, живьем увидеть «Битлз» в «Каверн-клубе»? Почему в распаде группы винили Йоко? Возможно ли, что какие-то поклонницы «Битлз» пошли по их стопам и стали профессионально заниматься музыкой? Погружаясь в битловскую субкультуру, я все больше интересовалась женскими действующими лицами этой истории, неважно, поклонницами, подругами, коллегами-исполнительницами или возлюбленными.
Поворотная точка случилась в 2002 году, когда я гостила летом у родственников в Берлине. Тогда-то я впервые узнала о группе Liverbirds. По телевизору показывали какой-то документальный фильм об истории рок-музыки в Германии, и выяснилось, что под влиянием «Битлз» четыре ливерпульские девушки сколотили собственную группу, которая вскоре перебралась в Гамбург и с успехом выступала в ФРГ и Западной Европе. Несмотря на все мои познания в истории «Битлз» и культуре 60‐х, включая собственный опыт игры в женской рок-команде, о подобном феномене я услышала впервые. Это стало подлинным откровением, и оставалось только гадать, почему история группы Liverbirds не получила широкой огласки.
Хотя написание этой книги в первую очередь было предопределено моей личной битломанией, сделанное в Берлине открытие заставило меня задуматься, а сколько еще таких женщин, кроме Liverbirds, остались незамеченными или недооцененными в существующей историографии «Битлз».
Делясь с читателями этим эпизодом своей частной битловской истории, я сразу же позиционирую себя как «ака-фан», или «науч-пок», – термин, предложенный исследователем СМИ Генри Дженкинсом для академического или научного исследователя и одновременно страстного фаната или поклонника предмета своих научных изысканий12. Подобная ипостась категорируется у Саймона Фрита, Александра Доути, Мэтта Хиллза и других как scholar-fan, «ученый-поклонник»13. И в том и в другом случае предполагается симбиоз, неразрывная связь личного интереса и исследовательской деятельности. Представители этой категории ученых часто подчеркивают как ее преимущества, так и подводные камни, потому что, с одной стороны, «автобиографическая заточенность» обеспечивает бóльшую глубину погружения в проблему; с другой – существует репутационный дисбаланс между академическим сообществом и фанатской тусовкой, а во время исследовательской работы «ака-фан» должен идентифицироваться и с тем и с другим. А уж если «ака-фан» еще и женщина, подобное позиционирование становится особенно сложным. Как четко сформулировали Кэтрин Ларсен и Линн Зубернис, женщины-поклонницы «…всегда изображаются как проявляющие наивысшую заинтересованность» и, следовательно, как «…наиболее доступная мишень для насмешек». А при работе над книгами о Битлз, в частности, «ака-фанаткам» предстоит вступить в неравный бой с бытующими стереотипами навроде того, что интерес, проявляемый женщиной к рок-группе, всегда и изначально синонимичен «дамскому „истерическому“ аффекту», в отличие от «интеллектуально зрелого художественного восприятия»14, обыкновенно (и далеко не бессознательно) связываемого с мужской заинтересованностью в Битлз. По сути, именно такая лжебинарность и заставила меня заявить о себе как об «ака-фанатке», особенно в свете того, что одна из задач книги – расширение все еще очень скудного информационного поля вокруг поклонниц и фанаток «Битлз». И сразу встает еще один вопрос: почему эмоциональный отклик, который вызывают «Битлз» у женской аудитории, в принципе воспринимается как «проблематичный» и почему подобные чувства, по общему мнению, не имеют ничего общего с интеллектуальным восприятием группы?
Женская история стремится к опровержению подобных предрассудков с того самого момента, когда этот аспект впервые оказался в фокусе исследовательского внимания. Женщина должна стать «центром исследования, основой истории, главным действующим лицом нарратива»15. На гребне второй волны феминизма в конце 60-х – начале 70‐х женская история как дисциплина стала набирать силу во многих западных университетах. Ученые-историки занялись поисками скрытых или утраченных сюжетов, подчеркивающих вклад женщины в семейную и общественную жизнь. Эта область изысканий, которая теперь традиционно рассматривается в рамках гендерных исследований, зачастую носит междисциплинарный характер и влечет за собой реабилитацию, репарацию и зачастую реинкарнацию.
Основной посыл, с которым пионеры данного метода подходили к проблеме, заключался в том, что мужское конструирование истории не в состоянии полностью инкорпорировать женский опыт. Женщинам становилось все сложнее идентифицировать себя с тем, как они изображались в историческом материале. И как тут не вспомнить слова историка Гизелы Бок, согласно которым «…стремление „вернуть женщину в историю“ также значит „вернуть историю женщине“»16.
Тот факт, что женская история «Битлз» и сегодня по-прежнему не написана, является подтверждением того, что рок-музыку давно принято считать уделом сугубо мужским. Женщины и девушки, рок-исполнительницы, слушательницы и хронографистки, обделены как четкой жанровой генеалогией, так и нарративами, свидетельствующими о личном опыте. В 1978 году музыковед-социолог и по совместительству экс-рок-обозреватель Саймон Фрит в соавторстве с культурологом Анджелой МакРобби опубликовал работу Rock and Sexuality («Рок и сексуальность»), где впервые предлагалась научная оценка рок-культуры, основными созидателями которой были юноши и мужчины. Женщины либо оттеснялись на второстепенные роли, либо изначально мыслились как поклонницы поп- и рок-звезд. Безусловно, это исследование часто подвергается критике за недостаточную проработку гендерного аспекта, но тем не менее его можно считать иллюстрацией баланса мужчин и женщин в этом жанре и рок-культуре в целом17. Неудивительно, что в другой своей работе, написанной на этот раз в соавторстве с Дженни Гарбер, МакРобби рассуждает о мужецентричности большинства молодежных субкультур. По большому счету, и в той и в другой работе женщине в культурном пространстве рок-музыки отводилась роль маргинальная18.
Однако если попытаться вписать в систему рок-координат группу «Битлз», то мы увидим, что явное нарастание «маскулинизации» начнется уже после их распада. Хотя «Битлз» якобы двигались от отчетливо «феминизированной» поп-аудитории начала 60‐х к более смешанной или «маскулинной» рок-ориентированной публике конца 60‐х, группа представляла собой не столь откровенный тип маскулинности19. И, в отличие от большинства современных им команд, – прежде всего, в отличие от роллингов – в словах их песен говорилось о светлых чувствах по отношению к девушке/женщине.
Положение женщин в рок-музыке вчера и сегодня – все равно, производят они контент, потребляют или обозревают его, – все еще испытывает на себе влияние маскулинного этоса. В этом аспекте даже применительно к Битлз, женщина и сегодня может чувствовать обиду. Именно об этом пишет одна молодая писательница: «„Битлз“ были и остаются одной из моих любимых групп, но тем сильнее обескураживает тот факт, что даже в 2017 году право на интерес женщины к ним или вклад в творчество не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, а нуждаются в доказательствах»20.
Это отведенное женщине в рок-культуре место на обочине настоятельно требует пересмотра как в исторической, так и в культурной перспективе. Некоторые известные музыковеды-женщины активно противостоят идее мужской гегемонии, согласно которой мужское/юношеское участие предполагает серьезную убежденность, истинность и посему должно считаться частью истории, в то время как женская вовлеченность всегда легкомысленно-капризна, скоротечна и с точки зрения большого нарратива ею можно пренебречь. Подобный подход совершенно неправомерно разделяет весь процесс общения с рок-музыкой на творчество и критический анализ (мужчины), с одной стороны, и потребление плюс эмоциональный отклик (женщины) – с другой. Как бы то ни было, в большинстве музыкальных фэндомов господствует именно мужская аудитория, от которой ждут интеллектуальной оценки и вкуса. И гипертрофированная лояльность юноши/мужчины какой-то определенной группе или исполнителю – а это нередко важная часть получаемого удовольствия – обычно не считается чем-то из ряда вон выходящим. Для парней эмоциональная вовлеченность в творчество любимых исполнителей не возбраняется, а вот пылкие отклики женской аудитории неизменно подвергаются суровой критике.
В контексте подобной весьма неоднозначной парадигмы надо ли удивляться, что у многих музыковедов есть вопросы как к истории жанра, так и к его ключевым сюжетам. Социолог Сью Вайз в своей работе об Элвисе Пресли заявляет, что феминисткам хорошо знаком метод «мужской интерпретации и тенденциозного формулирования в своих интересах либо с последующим представлением этого как реально существующей объективной картины мира». Более того, продолжает она, «…что именно женщины думали и думают [об Элвисе], так никому и неизвестно, по той причине, что их просто никто об этом не спрашивал, никому и в голову не могло прийти, что наше мнение может иметь значение»21.
Некой поправкой к этому историческому упущению, предметно концентрирующейся на женском восприятии рок-культуры и практическом участии в ней, могут считаться следующие книги: Джиллиан Дж. Гаар She’s a Rebel: The History of Women in Rock and Roll («Она бунтарка: История женщин в рок-н-ролле») (1992), Люси О’Брайен She Bop: The Definitive History of Women in Rock, Pop and Soul («Женский бибоп: Полная история женщин в рок-, поп- и соул-музыке») (1996), а также ее дополненное издание 2002 года She Bop II («Женский бибоп II»), наряду с Girls Rock!: Fifty Years of Women Making Music («Женский рок: Полвека музыки, которую пишут и исполняют женщины») Мины Карсон, Тисы Льюис и Сьюзан М. Шоу (2004). Эти издания отражают изначальные претензии женщин-историков к историографии мужского авторства, согласно которой роль женщины в общественной жизни либо маргинализируется, либо игнорируется. Мэри Селеста Карни признает, что работающие в этой области исследователи воспринимают рок-музыку как «…еще один значимый и по традиции преимущественно мужской формат, в котором к женщинам должно относиться как к равным, занимаются они исполнительством, арт-критикой, продюсированием или являются слушательницами»22. Подключая, таким образом, личный опыт, «…ученые-феминистки и их респондентки начинают активно взаимодействовать, что обеспечивает эпистемологическую составляющую исследования»23. С учетом кроющегося за научными изысканиями этоса подобный подход как нельзя лучше позволяет нам переосмыслить историю «Битлз».
Итак, где же нам искать женские голоса в традиционной битловской историографии? Любопытно, что первые упоминания о группе принадлежат английским журналисткам, таким как Морин Клив, Джун Харрис, Нэнси Льюис и Доун Джеймс. После распада «Битлз» воспоминания их бывших жен и подружек – Синтии Леннон (1978, 2005), Мэй Панг (1983) и Патти Бойд (2007), сестер – Джулии Бейрд (1988, 2007) и Полин Сатклифф (2001), а также поклонниц из 60‐х годов, начиная с Кэрол Бедфорд и ее книги «В ожидании „Битлз“: История Apple Scruffs» (Waiting for the Beatles: An Apple Scruffs Story) (1984) – позволили женской оптике разбавить плотно контролируемый мужчинами дискурс. С начала 1990‐х все больше женщин выбирали «Битлз» темой своих научных изысканий. Тем не менее это практически никак не связано с гендерным аспектом в истории и творческом наследии ливерпульской четверки. Исследования о группе, где актуализируется женский персональный опыт, как правило, концентрируются на 60‐х как на эпохе социокультурных перемен. Недавно ушедшая от нас музыковед Шейла Уайтли (1941–2015), анализируя музыку «Битлз» в британском контексте 60‐х, рассматривала ее именно сквозь призму гендера. Тот же временной отрезок притягивает социолога Барбару Брэдби, музыковеда Жаклин Уорвик и исследовательницу поп-культуры Кэти Капурч. Б. Брэдби интересует влияние «Битлз» на американские женские группы, Ж. Уорвик анализирует женские образы в текстовой ткани альбома Revolver (1966), а К. Карпуч рассматривает музыку «Битлз» и «личный состав» поклонниц группы с позиций так называемой girl culture (девичьей культуры). При этом, что характерно, она отнюдь не ограничивается рамками битломании.