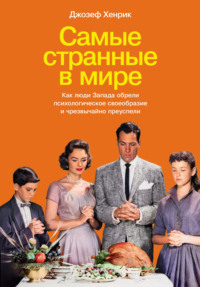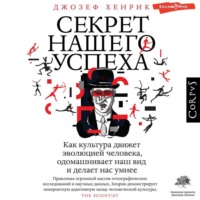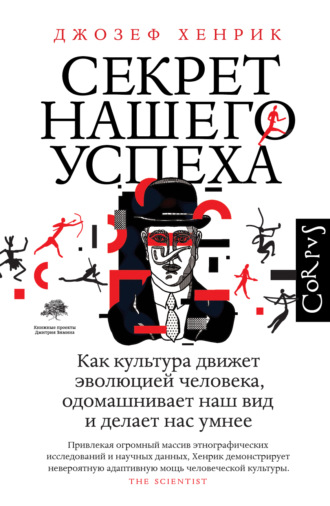
Полная версия
Секрет нашего успеха. Как культура движет эволюцией человека, одомашнивает наш вид и делает нас умнее
Естественный отбор сделал нас культурным видом, изменив наше развитие таким образом, что (1) наши тела медленно растут на протяжении укороченного младенчества и затяжного детства, зато у нас наблюдается рывок роста в переходном возрасте и (2) наше нейрофизиологическое развитие претерпело сложные изменения, в результате чего наш мозг при рождении опережает по развитию другие виды животных и при этом стремительно растет и еще долго сохраняет пластичность. В дальнейших главах я расскажу, как наша стремительная генетическая эволюция, крупный зрелый мозг, медленное физическое развитие и постепенная “прокладка проводки” стали возможными лишь как часть более масштабного набора особенностей, в число которых входит гендерное разделение труда, большой вклад родителей в воспитание детей и долгая жизнь после окончания периода фертильности, то есть после менопаузы. Эти особенности нашего вида тесно связаны с культурной эволюцией.
Приготовление пищи: переваривание вне организма
Пищеварительная система у людей совсем не такая, как у других приматов. Начнем сверху: рот, губы, зубы и расстояние, на которое раскрываются челюсти, у нас на удивление малы, а мышцы губ слабы. Рот у нас того же размера, что у обезьянки саймири, которая весит меньше полутора килограммов. Шимпанзе могут открывать челюсти вдвое шире нас и держать довольно большое количество пищи между губами и крупными зубами. Кроме того, у нас жалкие, коротенькие челюстные мышцы, которые крепятся совсем близко, прямо под ушами. У других приматов жевательные мышцы тянутся до макушки, где иногда даже крепятся к специальному костяному гребню. Желудки у нас маленькие, площадь их внутренней поверхности в три раза меньше, чем можно ожидать для примата наших размеров, а толстый кишечник слишком короткий – всего 60 % от ожидаемой массы. Кроме того, наш организм плохо справляется с токсинами из пищи, добытой в дикой природе. В целом весь наш желудочно-кишечный тракт – желудок вместе с тонким и толстым кишечником – значительно меньше, чем должен быть в организме таких габаритов. По сравнению с другими приматами пищеварительная система у нас очень слаба на всем протяжении – начиная со способности, точнее, неспособности измельчать пищу во рту и заканчивая неумением толстого кишечника переваривать клетчатку. Любопытно, что наш тонкий кишечник при этом примерно ожидаемой длины – исключение, разговор о котором мы ненадолго отложим7.
Неужели такой странный физиологический склад человека можно объяснить культурой?
Ответ заключается в том, что наш организм, а в данном случае – желудочно-кишечный тракт, эволюционировал совместно с культурно передаваемым ноу-хау, касающимся переработки пищи. Во всех обществах люди обрабатывают пищу методами, накопленными на протяжении поколений: варят, жарят, сушат, растирают, мелют, вымачивают, промывают, нарезают, маринуют, коптят и строгают. Самые древние из этих методов – вероятно, нарезка, строгание и растирание каменными орудиями. Нарезка, строгание и растирание мяса могут иметь большое значение, поскольку такая обработка разрывает, измельчает и разминает мышечные волокна, то есть частично исполняет функции ротовой полости, зубов и челюстей. Подобным же образом маринады имитируют химическое переваривание пищи. Кислые маринады вроде того, с которым готовят блюдо севиче, популярное на побережье Южной Америки, буквально начинают расщеплять белки мяса до того, как те попадают к тебе в рот, подражая методам желудочного сока. И, как мы видели в случае с нарду, охотники-собиратели издревле применяют промывание и вымачивание среди множества других приемов переработки пищи и выведения из нее ядовитых веществ.
Пожалуй, важнейшее культурное ноу-хау, сформировавшее нашу пищеварительную систему, – это тепловая обработка пищи. Приматолог Ричард Рэнгем привел убедительные доводы в пользу того, что тепловая обработка пищи, а следовательно, огонь сыграли важнейшую роль в эволюции человека. Ричард с коллегами подробно разобрали, как правильная тепловая обработка избавляет нас от огромной части работы по перевариванию пищи. Она размягчает и мясо, и растительную пищу и готовит их к усвоению. Правильный нагрев уничтожает ядовитые вещества и размягчает волокнистые коренья и другие растительные продукты. Кроме того, тепло расщепляет мясные белки, что сильно облегчает работу желудочного сока. Поэтому, в отличие от плотоядных, например львов, нам редко приходится держать мясо в желудке по нескольку часов, поскольку оно, как правило, поступает туда уже отчасти переваренным: его отбили, нарезали, замариновали и приготовили на огне.
Вся эта переработка пищи снижает пищеварительную нагрузку на наши рты, желудки и толстый кишечник, но не влияет на необходимость всасывать питательные вещества: вот почему тонкий кишечник у нас как раз такого размера, какой положен примату наших габаритов.
Однако при разговорах на эту тему часто упускают из виду, что методы переработки пищи – это главным образом продукт культурной эволюции. Например, тепловая обработка не принадлежит к числу того, что мы умеем делать инстинктивно или даже до чего можем без труда догадаться. Не верите – попробуйте развести огонь, не применяя никаких современных технологий. Потрите друг о друга две палочки, сделайте “сверло” – покрутите палочкой в выемке другой деревяшки, чтобы поджечь трут, найдите кусочек природного кремня или кварца и так далее. У вас большой мозг, вот пусть и поработает. Возможно, у вас включатся какие‐то инстинкты для разведения огня, созданные естественным отбором, чтобы помочь нашим предкам решать эту постоянно возникающую проблему. Возможно, они подскажут вам, что делать…
Не получается? Если вы не учились, как разводить огонь, то есть не получили культурную передачу, успех крайне маловероятен. Наши тела сформированы огнем и пищей, приготовленной на нем, но, чтобы развести огонь и приготовить пищу, нам нужно учиться у других. Разводить огонь настолько “неестественно” и технически трудно, что некоторые популяции охотников-собирателей утратили этот навык. В их числе жители Андаманских островов (у побережья Малайзии), сирионо (Амазония), северные аче и, вероятно, тасманийцы. Уточню: эти народности не смогли бы выжить без огня, поэтому огонь они сохранили, но не знают, как разжечь новый при необходимости. Если у какой‐то группы огонь случайно гаснет, например в сильную бурю, им приходится идти искать другую группу, у которой огонь не потух (на что остается только надеяться)8. Однако наши родичи неандертальцы, обладатели больших мозгов, жили в морозной палеолитической Европе в малых группах, рассеянных по большой территории, и если у кого‐то из них огонь угасал, его, возможно, не удавалось заново разжечь тысячелетиями9. Из главы 12 мы узнаем, как это происходит и почему такие серьезные утраты не должны удивлять.
Вероятно, огонь стал играть в жизни нашего вида такую важную роль, когда мы научились контролировать его, а контроль над огнем требует определенных навыков. Это только кажется, будто поддерживать огонь проще простого: ведь нужно делать это постоянно – и в грозу, и в ветер, и во время долгих переходов через реки и болота. Я кое‐что узнал об этом, когда жил в Перуанской Амазонии у племени мачигенга. Один раз я увидел, как женщина из этого племени перетащила в свой далекий огород полено – на вид оно было обугленное и давно остывшее, – а потом вдохнула жизнь в тлевший внутри уголек при помощи сочетания сухого мха, который она носила с собой, и отраженного тепла других поленьев. А еще я был крайне смущен, когда другая женщина-мачигенга – молодая, с непременным младенцем, висящим на боку, – остановилась у моего дома в деревне и поправила дрова в огне, на котором я готовил пищу. В результате огонь стал давать больше жара, появилось удобное местечко, куда ставить котелок, стало меньше дыма (и мне не пришлось больше кашлять) – и очаг перестал требовать моего постоянного участия10.
Самостоятельно научиться готовить методом проб и ошибок тоже очень трудно. Чтобы приготовление пищи помогало пищеварению, нужно готовить правильно. Плохая обработка может затруднить переваривание и повысить токсичность пищи. А хорошие рецепты для каждого типа пищи свои. Если нужно приготовить мясо, то самый очевидный вариант (по крайней мере, для меня) – положить куски мяса прямо в огонь – приводит к тому, что мясо будет жесткое, обугленное и при этом сырое внутри, то есть именно как не надо. Соответственно, малые сообщества обладают сложным арсеналом приемов обработки пищи, приспособленных для их рациона. Скажем, некоторые продукты лучше всего готовить, завернув в листья и надолго закопав в горячую золу (надолго – это на сколько?). А печень добычи многие охотники едят сырой, прямо на месте. Оказывается, печень очень питательная, мягкая и необычайно вкусная в сыром виде – кроме тех видов, у которых печенью можно отравиться насмерть (а вы знаете, что это за виды?)11. Охотники-инуиты не едят сырой печень белого медведя, поскольку считают, что она ядовита (и совершенно правы, согласно данным лабораторных исследований). Остальную тушу, как правило, разделывают, мясо иногда измельчают, иногда сушат, а затем готовят на огне, причем разные части туши по‐разному.
Воздействие этого культурно передаваемого ноу-хау, касающегося огня и приготовления пищи, повлияло на генетическую эволюцию нашего вида настолько сильно, что теперь мы, в сущности, не можем жить без пищи, приготовленной на огне. Рэнгем сделал обзор литературы о способности людей выживать исключительно на сырой пище. В обзор вошли описания исторических случаев, когда людям приходилось выживать без тепловой обработки пищи, а также исследования модных современных увлечений вроде сыроедения. Коротко говоря, все они свидетельствовали, что прожить без тепловой обработки пищи несколько месяцев очень трудно. Сыроеды тощие и часто чувствуют голод. Процент жира у них падает настолько, что менструации у женщин сплошь и рядом прекращаются либо становятся крайне нерегулярными. И это несмотря на то, что в супермаркетах продаются самые разные сырые продукты, у нас появились мощные высокотехнологичные орудия для обработки пищи, например блендеры, и сыроеды все‐таки едят некоторые продукты, прошедшие предварительную обработку. В общем, племена охотников-собирателей не смогли бы выжить без приготовления пищи на огне, однако же обезьяны прекрасно обходятся без него, хотя вареное и жареное любят12.
Зависимость нашего вида от огня и приготовления пищи на протяжении нашей эволюционной истории, вероятно, повлияла и на нашу психологию культурного обучения, сделав нас восприимчивыми к знаниям о добыче огня. Это пример тематической избирательности нашего культурного обучения. Дэн Фесслер, антрополог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, утверждает, что дети младшего школьного возраста (от шести до девяти лет) проходят фазу, когда им очень хочется узнать побольше об огне – и наблюдая за другими, и манипулируя с огнем самостоятельно. В малых сообществах, где дети могут свободно удовлетворять подобное любопытство, подростки успевают и в полной мере овладеть контролем над огнем, и утратить всякий интерес к нему. Любопытно, что, по словам Фесслера, у современных обществ есть такая особенность: очень многим детям не удается удовлетворить свое любопытство, и их увлечение огнем затягивается на подростковый период и раннюю юность13.
Вероятно, влияние социально усвоенных приемов переработки пищи на нашу генетическую эволюцию было медленным и постепенным, а началось с самых ранних каменных орудий. По всей видимости, эти орудия начали появляться по меньшей мере три миллиона лет назад (см. главу 15) и применялись для обработки мяса: с их помощью мясо отбивали, нарезали и рубили на мелкие куски14. Практика сушки мяса или вымачивания растительной пищи могла возникнуть в любое время и, возможно, неоднократно. Ко времени появления рода Homo, скорее всего, приготовление пищи начали применять спорадически, но все чаще, особенно там, где регулярно попадались крупные волокнистые корнеплоды или жилистое мясо.
Наш арсенал методов обработки пищи изменил давление отбора на пищеварительную систему, поскольку постепенно заменил некоторые ее функции культурными заместителями. Приемы наподобие тепловой обработки повышают энергетическую ценность продуктов и облегчают их переваривание и обезвреживание ядов. Этот эффект позволил естественному отбору сэкономить существенное количество энергии, уменьшив массу тканей кишечника, которые по энергетической затратности уступают только мозгу, а заодно и восприимчивость к различным заболеваниям этих тканей. Экономия энергии благодаря выведению вовне пищеварительных функций, обеспеченному культурной эволюцией, стала одним из целого комплекса изменений, которые позволили человеку постоянно наращивать объем мозга.
Как орудия труда сделали нас жирными и хилыми
Когда труппа “Ноэлев ковчег. Шоу с гориллами”, дававшая представления в бродячем цирке, разъезжавшем по Восточному побережью США с сороковых до семидесятых годов прошлого века, расклеивала афиши, где значилось “Срочно требуется атлетически сложенный мужчина, который сумеет положить на лопатки 85‐фунтовую обезьяну. Приз – пять долларов в секунду”, к ним неизменно выстраивалась очередь из крепких мускулистых парней, сложенных как полузащитники в американском футболе. Однако, как ни хотели они поразить публику на этом нашумевшем аттракционе, за тридцать лет ни одному человеку не удалось удержать молодого шимпанзе прижатым к полу больше пяти секунд. Более того, шимпанзе были поставлены в крайне невыгодные условия: на них надевали маски, как в “Молчании ягнят”, чтобы не дать пустить в ход их излюбленное оружие – огромные клыки. В дальнейшем цирковым обезьянам стали надевать еще и большие перчатки, поскольку шимпанзе по имени Снуки всунул большие пальцы в нос противнику и разорвал ему ноздри. Организаторы “Шоу с гориллами” весьма предусмотрительно выставляли на состязания молодых шимпанзе, поскольку взрослый шимпанзе (весом в 150 фунтов, то есть около 70 килограммов) вполне способен сломать человеку спину. В конце концов власти положили конец этим зрелищам, однако было непонятно, чья участь беспокоила их больше – юных шимпанзе или силачей, добровольно выходивших на ринг против них15.
Как мы стали такими хилыми?!
Все дело в культуре. Кумулятивная культурная эволюция создавала все более действенные орудия и оружие – клинки, копья, топоры, капканы, копьеметалки, яды и одежду, – и естественный отбор в ответ на перемену среды обитания, вызванную этими культурными продуктами, скорректировал наши гены, в результате чего мы стали слабыми. Удобные производительные орудия и оружие, сделанные из дерева, кремня, обсидиана, кости, рога и клыка, смогли заменить большие коренные зубы, чтобы дробить семена или волокнистые растения, и мощные клыки, сильные мышцы и крепкие кости, чтобы охотиться и сражаться.
Чтобы понять, как это получилось, вспомните, что огромный мозг поглощает огромное количество энергии. Наш мозг расходует от пятой части до четверти всей энергии, которую мы потребляем ежедневно, а мозг других приматов – всего 8–10 %. Другие млекопитающие тратят на мозг лишь 3–5 %. Хуже того, мозг, в отличие от мышц, нельзя отключить, чтобы сэкономить энергию: на поддержание мозга в состоянии покоя тратится почти столько же, сколько на активную мозговую деятельность. Наши культурные познания о мире природы в сочетании с нашими орудиями, в том числе и приемы переработки пищи, позволили нашим предкам получать высококалорийный рацион, тратя на это значительно меньше сил и времени, чем другие виды. Это сделало возможным рост мозга у наших предков. Однако, поскольку мозг требует постоянного притока энергии, периоды голода, вызванные, например, наводнениями, засухой, травмами и болезнями, становятся для человека серьезной угрозой. Чтобы справиться с ней, естественному отбору требовалось урезать энергетические затраты нашего организма и создать запасы на черный день. Появление орудий и оружия позволило ему обменять дорогостоящие ткани на жир, который дешевле в обслуживании и обеспечивает систему запасания энергии, необходимой для поддержания большого мозга в периоды нехватки пищи16. Вот почему младенцы, тратящие на строительство мозга 85 % энергии, такие толстенькие: им нужен энергетический буфер, чтобы обеспечить развитие нервной системы и оптимизировать культурное обучение.
Так что, если вам предложат бороться с шимпанзе, советую отказаться и предложить взамен состязания по (1) вдеванию нитки в иголку (турниры рукодельниц не зря придумали), (2) метанию мяча и (3) бегу на дальние дистанции17. Да, естественный отбор променял силу на жир, однако постоянно усложнявшиеся орудия труда и приемы обеспечили нам другое генетическое изменение – человеческий неокортекс, который отправляет кортикоспинальные импульсы в моторные нейроны, спинной мозг и ствол головного мозга глубже, чем неокортекс других приматов. Глубина этих связей во многом и обеспечивает нам легкое освоение сложных моторных навыков (вспомните уже упоминавшуюся пластичность неокортекса). В частности, эти моторные нейроны непосредственно отвечают за иннервацию кистей рук, что позволяет нам и вдевать нитку в иголку, и метко бросать мяч, а также управляют нашим языком, челюстью и голосовыми связками, что делает возможной речь (см. главу 13). Естественный отбор стал благоприятствовать мелкой моторике, когда кумулятивная культурная эволюция начала порождать все больше орудий, а сами они становились все тоньше и сложнее в управлении. В результате появления этих орудий возникло и новое давление отбора, повлиявшее на анатомию наших рук и пальцев: кончики пальцев у нас стали шире, большие пальцы – мускулистее, появился “пинцетный захват”. Культурная эволюция, вероятно, снабдила нас также пакетами для метания, в которые входили приемы, артефакты (деревянные копья, метательные дубинки) и стратегии, подходящие для использования метательных орудий в процессе охоты, добычи падали, набегов и контроля над соблюдением правил в общине. Появление всего этого наряду со способностью практиковаться в метании, наблюдая за сородичами, вероятно, вызвало некоторые специфические изменения в анатомии наших плеч и запястий, а кроме того, объясняет, почему многие дети так интересуются метанием (подробнее об этом в главе 15)18.
Наряду с анатомическими изменениями долгая история взаимодействия нашего вида со сложными орудиями, вероятно, сформировала и нашу психологию обучения. Мы когнитивно настроены на категоризацию “артефактов” (в том числе орудий и оружия): мы четко отличаем их от любых других предметов и явлений окружающего мира, таких как камни или животные. Когда мы думаем об артефактах, нас интересуют главным образом их функции, в отличие от растений и животных, а также неживых предметов вроде воды. Например, когда маленькие дети спрашивают об артефактах, они задают вопрос “Для чего это?” или “Что этим делают?”, а не “Что это такое?” или “Кто это?” – вопросы, которые интересуют их в первую очередь, когда они видят незнакомое растение или животное. Этот специализированный способ размышлять об артефактах в противоположность размышлениям о других неживых предметах требует в первую очередь наличия в мире, который необходимо изучить, сложных артефактов с неочевидными (причинно-непрозрачными) функциями19. Кумулятивная культурная эволюция с легкостью порождает подобные когнитивно-непрозрачные артефакты, о чем я подробно расскажу в главе 7.
Как емкости для воды и умение брать след сделали нас выносливыми бегунами
Традиционные охотничьи племена на всей планете показывают, что мы, люди, способны загнать антилопу, жирафа, оленя, стенбока, зебру, водяного козла и гну. Такая погоня часто длится часа три, а то и больше, но в конце концов добыча валится с ног либо от усталости, либо от перегрева. За исключением одомашненных лошадей20, которых мы искусственно отбирали на выносливость, основные конкуренты нашего вида по выносливости среди млекопитающих – некоторые социальные хищники вроде гиеновых собак, волков и гиен, которые тоже загоняют добычу и легко пробегают 6–13 миль (10–20 километров) в день.
Чтобы победить эти виды, нам нужно всего-навсего поддать жару, причем буквально, поскольку эти хищники гораздо более нас восприимчивы к повышенной температуре. В тропиках собаки и гиены могут охотиться только на рассвете и на закате, когда прохладнее. Поэтому, если хотите победить в беге своего пса, планируйте забег на 25 километров жарким летним днем. Пес точно вырубится. И чем жарче, тем легче вам будет победить его. Шимпанзе в этой области даже не дотягивают до нашей лиги21.
Сравнение человеческой анатомии и физиологии с другими млекопитающими, в том числе как с ныне живущими приматами, так и с гомининами (видами наших предков и вымерших родичей), показывает, что естественный отбор, вероятно, более миллиона лет формировал наши тела для длительного бега. У нас есть полный комплект специальных адаптаций для бега на дальние дистанции, от ступней до макушки. Вот всего лишь несколько примеров.
• Наши стопы, в отличие от стоп других больших обезьян, обладают пружинистым сводом, который запасает энергию и гасит ударные воздействия, возникающие в результате повторяющихся толчков ногой о землю, но лишь при условии, что мы освоим правильную технику бега и не будем приземляться на пятки.
• Наши относительно длинные ноги снабжены удлиненными пружинистыми сухожилиями, в том числе важнейшим ахилловым, которые крепятся к коротким мышечным волокнам. Такая конструкция обеспечивает достаточную мощность и дает нам возможность нарастить скорость, делая более длинные шаги, что экономит энергию22.
• В отличие от животных, природой созданных для быстрого бега и обладающих в основном быстро сокращающимися мышечными волокнами, у нас частый бег на дальние дистанции может сместить баланс в пользу медленно сокращающихся мышечных волокон в ногах с 50 % до целых 80 %, что значительно повышает аэробную мощность.
• Суставы нижней части нашего тела дополнительно укреплены, чтобы выдерживать нагрузки при беге на длинные дистанции.
• Чтобы стабилизировать туловище при беге, наш вид может похвастаться заметно увеличенными ягодичными мышцами gluteus maximus, а также сильными мышцами erector spinae, выпрямляющими позвоночник, которые тянутся вдоль спины.
• В сочетании с выраженно широкими плечами и короткими предплечьями размахивание руками при беге дает уравновешивающий момент, который помогает нам не упасть при беге. В отличие от остальных приматов, мускулатура верхней части нашей спины позволяет поворачивать голову независимо от торса.
• Выйная связка, соединяющая голову и плечи, закрепляет и держит в равновесии череп и мозг и защищает их от ударных воздействий во время бега. Выйная связка есть у некоторых других бегающих животных, но у остальных приматов ее нет.
Но самое сильное впечатление производят, пожалуй, наши терморегуляторные адаптации: мы, несомненно, самый потливый вид. Млекопитающие вынуждены удерживать температуру тела в относительно узком диапазоне, примерно от 36 °C до 38 °C. Летальная внутренняя температура тела у большинства млекопитающих лежит в пределах от 42 °C до 44 °C. Поскольку бег может вызывать десятикратное увеличение выделения тепла, неспособность большинства млекопитающих бегать на дальние дистанции объясняется неспособностью управлять таким нагревом.
Чтобы решить эту адаптационную задачу, естественный отбор благоприятствовал (1) почти полной потере волосяного покрова, (2) росту количества эккриновых потовых желез и (3) появлению “системы охлаждения головы”. Главная мысль состоит в том, что пот покрывает кожу и охлаждает ее при испарении, чему способствует поток воздуха, возникающий при беге. Чтобы оценить суть происходящего, вспомним, что потовые железы бывают двух видов – апокриновые и эккриновые. В период полового созревания апокриновые железы начинают выделять вязкий секрет, богатый феромонами, который часто перерабатывают бактерии, что создает сильный запах. Эти железы находятся у нас в подмышечных впадинах, на сосках и в промежности (сами понимаете, зачем они нужны!) Напротив, эккриновые железы, которые выделяют чистую соленую воду и некоторые другие электролиты, есть по всему телу, и у нас их значительно больше, чем у других приматов. Плотнее всего эти железы расположены на коже головы и на стопах – эти участки особенно нуждаются в охлаждении во время бега. Если подсчитать потоотделение на единицу площади поверхности, окажется, что ни одно млекопитающее не выделяет столько пота, как мы. Более того, наши эккриновые железы “умные”, поскольку к ним подходят нервы, обеспечивающие централизованный контроль со стороны мозга (у других животных потоотделение контролируется локально). Именно иннервированные эккриновые железы, а не апокриновые, и распространились по всему нашему телу за время эволюции человека.