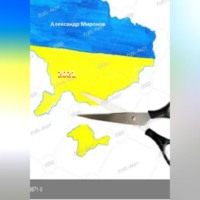Полная версия
Тварина

Александр Миронов
Тварина
Ошибка молодости
1
– Вот тварина! Вот тварь! – негодовал Никиша. – Вот навязалась! Вот же ж дурак был, а! Вот, дурак!.. Это ж надо было такую глупость сотворить…
Он ходил по кухоньке, мелкими шашками, то ли из-за ограниченного пространства, то ли из-за нервного возбуждения, что проявлялось в движениях ног, на которых он не мог стоять спокойно. Ходил, как заведенный, по привычке поглаживая второй фаланг на среднем пальце левой руки.
В молодости после войны и демобилизации из армии, работая механиком в колхозе, он на ремонте трактора повредил этот палец. Зашиб средний фаланг, может быть, и сломал, или приплюснул косточку. Ключ сорвался с головки болта, и он со всей своей молодецкой дури (как он сам говорил) приложенной на него въехал кулаком в чугунный двигатель агрегата. В те времена в рукавицах или в перчатках не принято было работать, разве только по зиме. Так что двигатель принял боксерский удар с молчаливой снисходительностью, а сам боксёр закрутился возле него волчком. Сбил казанки на всех пальцах, а средний угодил в торчащий из корпуса нарост. Но в деревне медика не было, а ехать в город за сто километров некогда, страда стояла, уборка хлеба была в разгаре и на механике колхоза лежала большая ответственность.
Местная знахарка, осмотрев опухоль, ворчала:
‒ Чо, помягче-то ничо не нашёл? Нашёл с кем буксоваться. Это, ить, не мешок с овсом, осторожней надоть.
– Да ключ сорвался, Праскова.
– Оно понятно, силы-то немерено. С войны пришёл, так тут покалечишься, – ворчала женщина лет пятидесяти. – Палец-то гнётся?
– Да больно сгибать.
Прасковья покивала головой, подвязанной ситцевым платком.
– На пальцы те, што посбивал, подорожник прикладывай, ранки затянутся. А на етот – два средства: это конский каштан, и желательно – парной. Второе – собственную мочу привязывай на ночь. Ничё страшного – если и днём недельку-другую подразнишь ею своих механизаторов. Из двух снадобий выбирай что-то среднее, и почашше, – хихикнула. – Но знай, так просто не отделаешься, маять пальчик долго будет.
Никифор едва ли не всю посевную носил на кисти то увесистый тампон парного каштана, то легкую повязку из собственного лекарства.
Мужики смеялись:
– Никифор, тебе со снадобьем не помочь?
– У моей коровы Зорьки – вó, оладушки!
– Спасибо, сострадальцы, у нашей тоже не маленькие, – отвечал он зубоскалам.
И процедуры помогли. Опухоль спала, а вот боль «маяла», видимо, при ушибе был повреждён нерв. Вначале зудящая, колючая. Потом, с годами, нудная, ноющая и ослабевающая. Палец стал сгибаться, хоть и не полностью, но в работе уже не мешал, не торчал, не цеплялся за предметы. Кистью мог обхватить топор, лопату или ключи при ремонте сельских механизмов и автомашин. Но за годы болезни пальца, он так его полюбил и привык к нему, что это привычка не покидала его до самой старости. Ласкал и гладил его уже автоматически, неосознанно.
– Это ж надо было такую глупость сотворить… – продолжал он возмущаться, натирая палец.
Зоя Гавриловна сидела за кухонным столиком и согласно кивала головой, и волосы, слегка подкрашенные хной, рыжевато-пегие, встряхивались. Она целиком разделяла его негодование. У неё тоже от создавшегося положения на душе было скверно.
Эх, так ошибиться!
Она с тоской оглядывала помещение, – после двухкомнатной квартиры с широкой светлой кухней, это (однокомнатная) вынужденное пристанище выглядело конурой, клеткой, ящиком, и она даже язвила – склепом. Дожила девонька на старости лет. Но сдаваться она не собиралась – это не её метод. Надо действовать! Как? – надо подумать. И она, несмотря на внешнее спокойствие, сосредоточенно думала. А приходится думать за двоих. Её мозги ещё не повредил старческий маразм, и инсульт не стукнул головой об батарею.
Никифор Павлович был взбешён тем, что все инстанции, в какие бы он не обращался, ему помочь ничем не могли. Всюду разводили руками. И говорили с сожалением:
– Извините, Никифор Павлович, но мы тут бессильны…
Или в той же адвокатской конторе:
– Извини, отец, но, увы, против закона нет другого закона. Смирись. А лучше помирись с внучкой.
Ха, и что за такие законы, которые не могут пенсионеру и ветерану войны помочь? С внучкой совладать! Э-э, да знали бы вы кто это…
Да и как с ней мириться? Из-за неё, можно сказать, своя семья рушится!.. И от предчувствия безвыходности Никифор Павлович негодовал.
Зоя Гавриловна переживала создавшееся положение по-своему и посматривала на Никишу с некоторой тревогой: не добегался бы парень опять до нового инсульта. Не ровен час, кондрашка хватит. Тогда и вовсе останется бабушка у разбитого корыта.
– Успокойся, Ник, успокойся, – негромко, но с твёрдыми интонациями в голосе сказала Зоя Гавриловна.
Её белое маленькое лицо с морщинами в мелкую сеточку, подпудренное, с подведёнными чёрным карандашом бровями и с подкрашенными губами, было снисхотельно-доброжелательным. Зоя Гавриловна вообще была из той породы людей, у которых жизненным девизом было правило:
"Спокойствие. Спокойствие, прежде всего. Нервные клетки не восстанавливаются!" – И она берегла их. В свои почти семьдесят лет, благодаря этому сбережению, ей удалось сохранить вид, если не сорокалетней дамы, то на пятьдесят быть может. Она не намеривалась жизнь свою заканчивать неврастеником и сморщенной, как измятый лист бумаги. Ей хотелось жить и жить долго, и, по возможности, безбедно, уютно. Но, кажется, на сей раз, она упускает из рук ситуацию.
Эх, поздновато они сошлись, поздновато. Это бы годик назад после смерти Савелия, тут всё выстроилось бы по иному и с наибольшим эффектом для них, а для неё в особенности. Так ведь сам затянул, чёрт старый, пока не клюнул жареный петушок в темяшок… Убегал от женитьбы, пока инсульт не прихватил.
Вначале у него ушла дача. Ну, дача, не такая уж большая ценность по теперешним временам, – продал и раздал деньги по своим детям. Бог с ней. Машина тоже прошла мимо. Старенький “москвич”. Жорка, внук его, восстановил, и дед отписал машину ему по дарственной. Поторопился. Недавно хотел было вернуть, да не тут-то было. Ушла машинка. Как и гараж, – нацелился отписать старшему сыну. Ну, этому и не жалко, немало, чем помог, тем же добрым словом, хоть и живёт в другом городе, а не забывает, позванивает. И вот теперь квартира… с которой, кажется, тоже пролетают.
– Присядь, Ник, присядь. Давай, я сейчас чаёк приготовлю, да по сто грамм фронтовых примем. Посидим, помозгуем, глядишь, чего-нибудь и придумаем.
Никифор Павлович перестал топтать кухню и присел к столу. Сел, уперся локтями в столешницу и обхватил голову ладонями. Она у него гудела и нет-нет, да и прокалывало то затылок, то виски. Особенно правое полушарие. Ударился этой стороной об батарею комнатного отопления в позапрошлом году, залил кровью пол, измазал шторы и, похоже, что-то сбил в ней, возможно, разбередил старую военную рану, контузию. В голове стало шуметь, и порой боль пересекала её поперёк. Сколько пролежал он тогда без памяти, не помнит, а когда очнулся, первого, кого на помощь позвал – Зою Гавриловну. Это был верный товарищ, надёжная подруга, ветеран войны. А в тот момент стала, едва ли не роднее родной матери.
Почему именно её и почему именно таковой она ему представилась тогда, трудно сказать. За то не продолжительное время знакомства, какое они имели, она была, пожалуй, самой доброй к нему, внимательной и заботливой. А что ещё может так положительно воздействовать на психику пожилого человека, тем более в критический миг его жизни, как не внимание к нему? Потому в сознании, в час печали и боли, всегда проявится тот, кто близок душе и, особенно, сердцу. И, видимо, его больное на тот момент воображение потянулось к тому, кто одарил его своим теплом и чувствами.
А у Никифора Павловича в воспалённом мозгу, среди шума в нём, болезненного состояния всплыл тогда никто иной, даже не дочь, не сыновья, а этот милый образ, к которому он и потянулся, как ребёнок к матери. Потом подпал под её влияние, с той же детской непосредственностью. Внешне он выглядел вполне здоровым и в поступках, и, пожалуй, в рассуждениях ничем не выделялся, но Зоя Гавриловна уловила эту зависимость от неё, и помогала ему своей обходительностью, направляла его мысли и действия. И он всё более к ней привязывался, слушался. Шёл на её "поводке", сам того не осознавая. Да и не только он. Было в этой женщине нечто, что могло внушать доверие к ней, и она могла проникать человеку в сознание и в душу.
Зоя Гавриловна подошла к Никифору Павловичу, положила ладони на его голову и стала поглаживать по волосам. От её прикосновения, участия, доброты в Никифоре Павловиче ослабло напряжение, и он почувствовал, как жар, обложивший голову, стал затихать, а свинцовая тяжесть как бы скатываться с головы по позвоночнику вниз. Облегчение и покой начали растекаться по телу. Он задышал ровнее, руки его опустились на стол, и пальцы правой руки обвили фаланг среднего пальца левой руки. Такую легкость он испытывал, пожалуй, только в детстве. Может во сне. Из памяти уже и детство стало теряться. Да и сама память давала сбои и часто. Только вот при ласке да при душевном участии она как будто бы оживает, возвращаются призабывшиеся ощущения.
И участие Зои Гавриловны проняло его до слёз. Он как ребёнок зашмыгал носом. И обида на родственников, сконцентрировавшая на облике Кати, стала разрастаться. Он завсхлипывал.
– Ох, и твари-ина…
– Тише, тише, спокойно, милый, – приговаривала Зоя Гавриловна, нежным грудным голосом. Но глаза не выражали искреннего сочувствия.
2
Познакомились они три года назад, хотя и проживали в одном микрорайоне за четыре дома друг от друга. А в большом городе, где один дом по народонаселению больше иной деревни, такое вполне возможно. В своём-то доме из пяти этажей и семи подъездов не всех знаешь, а что говорить о соседях по улице, по микрорайону. Вот так вот и жили, друг от друга рукой подать, а встретились и познакомились когда – на вечере ветеранов Отечественной войны, куда Никифор Павлович попал впервые и где, по случаю, они оказались за одним столиком. Видимо, судьба счастливые дорожки налаживает хоть и с запозданием, но в своё время.
Вначале Зоя показалась ему очень молодой и если бы не орден "Отечественной войны второй степени" на лацкане тёмно-синеного костюма, ни за что не поверил бы, что она из той плеяды людей, что и он, о которой всё же нет-нет да вспоминают, по праздникам. Она была невысокого роста, в теле комсомолки-активистки и не в "хилом" наряде. Кроме костюма на ней была кофточка, даже очень белая, такие теперь прозывают как будто бы "кипельными" (напридумывали же словечек! – не в "хилом" наряде, "кипельными"… – от внучки наслышался), и серебристая розочка на левой груди. Розочка при дыхании груди или при движении тела переливалась, серебрилась при ионовом свете помещения. Казалось, она грелась на этой теплой подушечке, на свету. Цвет костюма гармонировал с голубыми глазами, правда, слегка поблекшими, но выразительными в рамочке чёрных ресниц и тонких бровей и потому казавшимися лучистыми. Щёк не тронула возрастная бледность, или почти не тронула, на них умело были нанесены румяна, которые выглядели не вычурно и не кичливо. Правда, на губах помада была немного ярче. Однако в меру и потому так впечатляюще и моложаво выглядела женщина.
За столом, после ста граммов фронтовых и прикупленного "на прицеп", Никифор Павлович повёл себя несколько раскрепощёно, да и соседи стали словоохотливыми. И на очередной вальс под фронтовую песенку он уже пошёл с молодецким задором, пригласив на него новую знакомую. К тому же Зоя Гавриловна была внимательна к нему. Особенно, когда выяснилось, что фронтовые пути у них пересекались, и даже едва не сошлись в Японскую компанию при высадке десанта на остров Сахалин и далее – на Курилы. После героических и в то же время драматических воспоминаний, между ними возникли едва ли не родственные отношения, скрепляющие души фронтовиков. Его рассказы она воспринимала с неподдельным интересом и всячески поддерживала начатый им разговор. С ней было непринужденно, спокойно, душевно комфортно. И так стало жаль в этот час, что такая женщина прибыла на Сахалин со вторым эшелоном. Ведь могли бы встретиться. И, быть может, жизнь прошла бы по-другому, интересней…
Танцевать Никифор Павлович умел, в рамках домашнего обучения. Так же, наверное, как большинство людей его возраста, поскольку припадочных танцев они в своей молодости не знавали, а с годами, наоборот, дорожили старыми танцами, и танцевали только их, принципиально и с наслаждением. Зоя была из тех, из довоенной поры, а потому умела вальсировать и быстро подстроилась под вождение кавалера. Никифору Павловичу и эта особенность партнерши пришлась по душе.
В танце Зоя выложила своё мнение о нём.
– Вы одинокий? – поинтересовалась она.
– Да. Как вы определили?
– Ну… – она игриво дернула душкой подрисованной брови и засмеялась. – Глаз намётан, с войны пристрелян.
– А вы тоже, – наугад сказал он.
– Да. А вы как поняли?
– Тоже глаз намётан.
И им обоим показалась такая шутка уместной, веселой, и они стали кружиться.
Потом он спросил, перейдя на "ты":
– Давно вдовствуешь?
– Пять лет, – слукавила тогда она. На сам деле… – А ты?
– Я второй год.
И эта подробность стала ещё одним связующим звеном, закрепляющая их отношения.
Но говорить о жене-покойнице не хотелось, и Никифор Павлович перевёл разговор на фронтовые воспоминания. О том, как в начале войны он был на западном фронте и как их учебный авиаполк разбомбили под Вязьмой, где, к счастью, он был лишь контужен и ранен в голову.
Показал заросший волосами шрам, оканчивающийся на лбу едва заметной загогулиной. Она пощупала его пальцами, – удостоверилась, проявив здесь свой профессиональный навык.
– А я при госпиталях, – сказала она. – С начала сорок второго и до сорок седьмого. Вначале санитарочкой, потом медсестрой. Потом демобилизовалась вместе с мужем.
– А я при авиации. Механиком самолетов был. Долго не мог оформить военную надбавку за ранение и контузию – потеряны документы. По врачам и комиссиям загоняли. А сейчас у нас в городе новый военком, – продолжал Никифор Павлович. – Молодой подполковник. Матюгнулся, да и говорит: сколько же можно над стариком издеваться!
– Это кого он стариком обозвал? – рассмеялась партнерша. – Совсем человек не разбирается в физиогномике.
Никифора Павловича её шутка тёплой волной окатило сердце, и в глазах засветились искринки. Он тоже засмеялся, прижав её к себе, скорее от охватившего чувства благодарности, неожиданно. И испугался невольного порыва. Но Зоя не отстранилась, а лишь вскинула глаза. Это его смутило, и он принял дистанцию. Смущённый и взволнованный он продолжил прерванную тему:
– Сюда попал первый раз, всё как-то некогда было.
– То-то я смотрю, новый человек. И довольно-таки бравого вида. Правда, немного подзапущенного.
– Так возьми шефство!
– Ну-у, поживём, увидим.
– Да чего смотреть? Я уже ранен… осколком из-под Сахалина.
– В наши-то годы и говорить о сердечных ранениях?
– А причём тут года? Недавно сказку по телевизору слушал. Так в ней царь, старик, так говорит: "Если все любви покорны, так и я покорный то ж…"
Засмеялись. Зоя Гавриловна на его заигрывания посматривала снисходительно. Как на нечто занимательное и не реальное. Хотелось бы… но кого-нибудь помоложе, по её запросам, на кого она ориентирует себе и внешне поддерживает. Старики ей уже успели поднадоесть. Но от проводов тому, что досталось с вечера, себя не отказала.
Шли через два микрорайона пешком.
– Живу один. Скучновато.
– Мне тоже.
– Тогда, может, ко мне зайдем, или к тебе?
– А почему бы и нет? – игриво засмеялась она.
– Ну, так – куда?
Она пожала плечиками.
– Всё! Начнём с моего приглашения! Или с твоего?
‒ Ну что же, начнём с моего. Идти ближе.
Он приобнял её и повлёк решительнее.
И на удивление, и на радость Никифор Павлович оказался не из исхудавших и не выболевших мужичков. Видно, судьба его хранила, а природа сохранила ему силы и, возможно, для неё.
Со старостью приходит мудрость. Если в молодости на знакомства и на ухаживания можно себе позволить роскошь и потратить дни, недели, месяцы, а то и годы, то в возрасте такое расточительство просто непозволительно. Тем более старик, кажется, запал, как говорит молодежь, на неё серьёзно. И тут, пожалуй, есть свой резон…
В пастели, глядя куда-то на окно в темноту ночи, говорила затейливо:
– Никифор Павлович, я вас буду звать Ником. Вы не возражаете?
– Да, пожалуйста.
– А то Никифор – это как-то грубовато, мизантропическое, не современное.
– Да хоть копчёным горшком, только в печь не сажай, – засмеялся он. – Главное – чтоб любила и горячей к себе прижимала.
Он положил Зою себе на грудь, и стал целовать.
А он действительно забыл о годах. Женщина ему уж очень приглянулась, пришлась по душе.
Ещё при жизни супруги, из-за её болезни, когда уже ей было не до интимных отношений, он стал "прихватывать" на стороне, и, как ему казалось, промаха не давал. Благо, что по соседству на даче было с кем. Главное, не дать организму застояться, ослабнуть. Ржавеет ведь не только металл.
Когда Анна слегла, и ей уже было не до интимных отношений, Никифора стали интересовать в соседке по дачи женские прелести.
Повод нашёлся.
– Поля, – позвал он через забор, она подошла. – Слушай, пойдём ко мне.
– А что случилось? – выгоревшие на солнце брови вопросительно вздрогнули.
– Да сегодня как-никак праздник.
– Какой?
– Вот молодежь пошла, даже такие памятные даты не знает.
– Что за дата, Никифор Палыч?
– Так 9 августа, день победоносного наступления Красной Армии на японских милитаристов.
Полин курносый нос обострился, челюсть отвисла.
– Ай-яй, а я, действительно, не помню.
– Так пойдём, вспомним и отметим. А то одному как-то не очень…
– Ладно. Сейчас приду.
Пока Поля управлялась со своими делами, он в кухоньке, пристроенной мансардой к входу дома, накрывал на стол. Нарезал помидоры, огурцы, достал из холодильничка «Бирюса» колбасу. Нарезал хлеб в тарелку. И поставил на стол пол-литровую бутылку с самогонкой. С грядок нащипал перья зелёного лука и укропа. Ополоснул их под умывальником и положил в отдельную тарелку.
В предвкушении приятного застолья, потёр ладони. Оглядывая сервировку, стал потирать средний палец на левой руке. Кажется, стол готов.
Пришла Полина.
– Садись, – показал на стул справа у столика и достал с висевшего на стене небольшого шкафчика два граненых стакана. Наполнил их до половины. Сел сам.
– Ну, Поля, давай за тех, кто командовал ротами, и за тех, кто ложилися ротами. Пока не чокаясь.
Он выпил полностью. Она половину.
– Что-то ты не всё выпила? – спросил он недовольно, занюхивая хлебом и закусывая зелёным луком.
– Не могу. Тяжело по такой норме за раз.
– А тем, кто в атаки ходил – легко было? Давай, допивай. Не оставляй зла. Помяни по-человечески. И закуси вот, помидорами, огурцами, колбаской. Давай, давай. По второй уж – сколь душа примет.
– Так я опьянею, ‒ хихикнула, как всхлипнула.
– Ну, так и что? На то и пьем, чтоб хмелеть, да жизни радоваться.
Полина выпила. Стали закусывать. Он одобрительно кивнул.
– Я, Поля, и на западном фронте был, и на восточном. Всего повидал и пережил. И ранен и контужен был. Вот она, отметина, – показал на лоб и на теменную часть головы.
Поля сочувствующе покачала головой. Сказала:
– Я думала – это у вас с детства.
– Ага, с детства. Такого детства никому не пожелаю.
Налил ещё в стаканы.
– Ну, а теперь давай за тех, кто горло ломали врагу, – подождал, когда она поднимет свой стакан, чокнулся с ним.
Он выпил залпом, она по глоточкам, но осилила всё.
Никифор Павлович предался воспоминаниям. Она сидела, слушала, живо сопереживая, чем всё более подогревая его сердце. Он уже видел в ней интересную собеседницу, и приятную женщину. А когда Поля поддержала начатую им песню «Эх, дороги, пыль да туман…», он расчувствовался, наклонился к ней, приобняв, поцеловал в лоб, в щеку. Она, пьяненько хихикая, слабо попыталась отстраниться. Но он ещё крепче обнял её за шею, поднял за подбородок голову и вобрал влажные мягкие губы в свои. Поля замычала, как бы в сопротивлении, но сил не хватило вырваться. А когда на груди почувствовала под рубашкой и лифчиком его ладонь, воля к сопротивлению оставила, она обмякла.
Он поднял её на руки и понёс в горницу.
Поля шептала:
– Никифор Палыч… Да как же? А тетя Аня как?.. А если узнает?
– А ты что, ей нашу картинку будешь по телевизору показывать?
– Ну, ведь совестно…
– Тебе-то чего стыдится, холостой? Мне бы ещё можно. Да и то если бы я при здоровой жене на сторону заглядывал. Уж полгода на сухом пайке. Мы ж друзья с тобой, выручай. Я тебя выручаю, вот и ты меня выручай. А я тебя шибко хочу…
Потом, после смерти жены, появлялись женщины, правда, не всегда бескорыстные: некоторые старались кое-чего заполучить от него, как бы за предоставленные услуги. Но это касалось в основном тех, что помоложе. Так постепенно разгрузился вначале платяной шкаф от одежды покойницы. Потом – полки посудного шкафа полегчали. Кому и деньгами "помогал", поскольку времена настали трудные, постперестроечные. А больше – самогоночкой. Она проходила, как жидкая валюта, – сейчас баб развелось пьющих, курящих больше, чем мужиков. Но пьющих он всё же старался избегать. Потому что были среди них и такие, что исподтишка обворовывали, – кое-какое золотишко, бижутерия и прочее ушло. Когда Катеринка после родов приехала с правнучкой, то только руками всплеснула от восторга и то не радостного.
– Дед! А где бабушкины кофточка, платье?
Или:
– Где бабушкины ожерелье, серёжки?
– Продал!
"Где-где? Счас, отчитываться начну", – проворчал он про себя.
А он действительно был недоволен приездом внучки. Полюбилась ему одинокая жизнь холостяка. Тем более сейчас, при обходительном отношении и догляде фронтового товарища.
Никифор Павлович в свои, казалось бы, преклонные годы, чувствовал себя далеко не немощным. У него на роду была написано долголетняя жизнь и не менее чем до ста лет, и притом – деятельная. Это ему отец и дед, и прапрапрадеды передали, как ценное достояние. И он его унаследовал, и пользовался им. Все они, предки, столь заманчивый рубеж достигали, или почти достигали. Да неужто он не наследник своих отца и прадедов, и уступит им? А, встретив Зою Гавриловну, в нём заиграло ретивое и не на шутку.
Жениться Никифор Павлович, в принципе, не хотел и не женился бы ни за какие коврижки. Он наелся этой жизнью с Анной Николаевной "по саму под завязку". При одном только воспоминании, особенно при последних годах её жизни, у него всё внутри переворачивалось. Этот кошмар преследовал его постоянно. И теперь, ему казалось, что он вырвался из ада. Конечно, он понимал, некоторым старушкам хотелось бы на старости лет преклониться к чьему-нибудь плечу и прожить остатние годочки не в одиночестве, надеялись. Таких бабёнок жалко было, и в душе он сочувствовал им. Другим же хотелось от него нечто материального. И он им оплачивал, и кое-чем из предметов своего быта. Да и для кого теперь что беречь? Гори оно синем пламенем, лети всё прахом. Когда жива была жена, когда семья была, наживал, старался, а теперь?.. Пожить надо хотя бы чуть-чуть для себя. Хватит, пожил, что называется, за того парня, весь долг ему выплатил, и сполна…
Встречу с Зоей Гавриловной воспринял более эмоционально. И встречался с ней охотнее. И ещё чем Зою отличало от некоторых, она была самодостаточна: имела хорошую двухкомнатную квартиру, современную обстановку в ней – телевизор, видео, музыкальный центр. Кроме того – два гаража, которые отписала внукам, машину "Волгу" – зятю. То есть всё, что имела, что наживала когда-то кропотливо, в трудах и хлопотах, чётко расписала по родственникам, – приёмной дочери (чего и не скрывала) её мужу и сыновьям. Единственное, чего бы ей хотелось ещё, так это младшему внуку однокомнатную квартиру. Или старшему – двухкомнатную, а младший чтобы перешёл в его однокомнатную. Ну что же, всё лучшее – детям. Серьёзная женщина, серьёзные задачи. Не то, что некоторые из тех подружек, что живут одним днём и мелочами. Она же от него ничего не требовала, и, наоборот, встречала его всегда с накрытым столом и соответствующей сервировочкой.
Желание Зои Гавриловны было вполне понятным Никифору Павловичу, естественное стремление. У него у самого жили подобные цели. Правда, они были связаны не с квартирами, хотя хотелось бы отселить внучку. Да вскоре пропали и они. На последних двух годах жизни Анны Николаевны пропало. Вместе с семейными чувствами и привязанностями. Всё в нём поотравили.