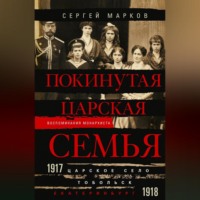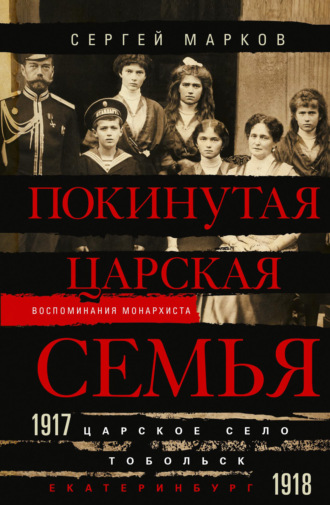
Полная версия
Покинутая царская семья. Царское Село – Тобольск – Екатеринбург. 1917—1918
С момента появления Распутина травля государыни и всей царской семьи была поднята, как никогда, сильно. Особенно было на руку клеветникам то, что посещения Распутиным дворца обставлялись таинственностью, и они ткали на этой канве чудовищные и нелепые слухи и сплетни. Мне первое время также было непонятно это обстоятельство, но впоследствии все стало ясным. Их величества, сознавая, что могут пойти те или другие слухи о Распутине, и не желая, чтобы кто-либо вмешивался в их личную жизнь, не хотели афишировать посещения Распутиным дворца, но это вызвало как раз обратное действие.
Вопреки установившемуся убеждению, что Распутин считал и выдавал себя в глазах царской семьи за святого, я должен засвидетельствовать, что Распутин всегда негодовал, когда кто-нибудь называл его святым, говоря, что такой человек, как он, святым быть не может и что государь даровал ему право лишь молить о прощении грехов и помощи таким же грешным людям, каким является и он сам.
От предложенного ему священнического сана он категорически отказался, заявив, что он священником быть не может и что он просто-напросто «божий человек», который призван для того, чтобы напомнить о присутствии Бога и необходимости молиться Ему. Прими Распутин священство и появляйся легально во дворце, мне кажется, большая половина сплетен о нем в связи с царской семьей отпала бы сама собой. Я не хочу настаивать на том, как помогали несчастному наследнику при его страданиях молитвы Распутина. Улучшения в его болезнях можно объяснить гипнотической помощью Распутина, или же, наконец, эти улучшения в его здоровье происходили нормальным путем, случайно совпадая с появлениями Распутина.
Как бы там ни было, но сами факты улучшения здоровья или выздоровления остаются несомненными. Не кто иной, как Распутин, за несколько лет до революции сказал, что с его, Распутина, смертью на Руси случатся великие волнения, все будет залито кровью и наследник заболеет. Кто же, как не он, в свое время предсказал неудачный исход войны, будучи против нее?
По поводу первых двух моих замечаний, помогали ли наследнику молитвы или гипноз Распутина, скажу следующее: совершенно несомненно, что Распутин обладал громадной гипнотической силой, и, когда мне приходилось спорить об этом с известными мне поклонниками и поклонницами Распутина, чего я из чувства корректности старался избегать, мне неизменно отвечали:
– То, что вы называете гипнозом, это не гипноз, это особенная, Богом данная сила, могущая быть только у искреннего молитвенника и поборника православия… Григорий Ефимович врачует глубиной и проникновенностью своей молитвы!
На этом мой спор, естественно, прерывался. Одно было только для меня ясно, что будь Распутин не тем, чем он был, а, предположим, профессором медицины какого-либо университета, то он так легко к царской семье не попал бы и такого впечатления не произвел бы. Это может показаться странным, но это так, и вот почему: сколько настоящих русских семейств верило и верует в силу молитвы различных юродивых и по миру ходящих странников, относясь критически к врачебным способностям известных врачей, лечивших силой внушения и зачастую очень успешно. Чем же семья русского царя не была русской семьей? Или ей не дано право быть таковой?
Совершенно естественно, что, если бы подобное встречалось в семье какого-либо даже очень высокопоставленного лица, принимавшего у себя странников, оно было бы не на виду, и этим никто бы не интересовался. Положение царской семьи было совершенно иное, жизнь ее протекала у всех на глазах, и ее хотели опорочить и опорочили.
Распутину также приписывали участие в делах управления Россией, влияние его в этом направлении на государя. Словом, силились изобразить его человеком государственного ума, которого у него на самом деле никогда не было. Распутин был лишь бессознательной пешкой в руках тех, кто сразу учел всю выгоду использования для себя положения Распутина. Из Распутина сделали ходатая по делам у их величеств, и более умные и пронырливые царедворцы и сильные мира сего умело играли его же именем «на понижение» тех, перед которыми они раболепствовали. Результаты этой двойной игры скоро сказались, и несчастная Россия дождалась «великой бескровной»[6].
Можно с положительностью установить, что не министры были марионетками Распутина, а, напротив, он сам был таковой в их руках. Безграмотные записки Распутина: «милой, дорогой, сделай» или «дорогой, устрой» – стали общеизвестными; ими возмущались, но ими пользовались… Напрасно думают, что виною гибели России было моральное разложение святой и чистой царской семьи, принимавшей у себя простого мужика Распутина и видевшей в нем спасение и избавление от мучений их горячо любимого маленького страдальца. Нет! Тысячу раз нет… Государь или его семья в гибели нашей несчастной Родины не повинны! Виноваты в этом мы все, принадлежавшие к русскому обществу и воображавшие, что мы «соль земли русской», и ничего для русского народа не сделавшие. Виновата наша интеллигенция, оторванная от народа и растлившая его, а больше всего виноваты опять-таки мы, так как мы в нашу среду принимали этого сибирского мужика, не веря в его святость, не ища в нем спасения от болезней, а пользуясь им лишь в корыстных целях, выклянчивая у него его безграмотные записки…
Поздно опомнился князь Юсупов, в свое время дневавший и ночевавший у Распутина! Ни к чему было играть на трескучем патриотизме монархисту Пуришкевичу и пачкать свои руки в гнусном деле предательского убийства. Выстрелом князя Юсупова Россия была ввергнута в пропасть, и лужа крови в особняке на Мойке обратилась в океан, затопивший нашу Родину. Мне не хочется марать страниц своих воспоминаний подробностями этого убийства. Желающие могут ознакомиться с ними из первоисточников, прочтя возмутительные, циничные излияния Пуришкевича и воспоминания князя Юсупова.
Если же и оправдывать такой способ удаления Распутина, то разве можно было его убивать в момент войны, в момент величайшего напряжения народных сил? А если решиться его убить, то разве таким низким способом, каким убили его эти господа, предательски, в спину? Такими методами пользуются лишь уголовные, профессиональные убийцы. Шарлотта Корде[7] так не убивала. Об этом следовало бы подумать сиятельным убийцам, так как даже убийство подчас может быть красивым!
Еще менее достоин поступок князя Юсупова, письменно клявшегося в письме к государыне «именем князей Юсуповых», что не только он не убивал, но что и вообще у него в доме в памятную ночь на 17 декабря 1916 года никакого убийства не было…
Нет ничего удивительного, что Россия, дожившая до таких князей и до таких понятий о княжеском слове, дожила и до Троцкого с Лениным с циничным отрицанием старых договоров и обязательств. Бедный государь! Несчастная Россия!
Мы не были достойны такого благородного, мягкого и доброго монарха. Не надо забывать, что если Россия когда-то и была велика и могуча, то это в царствование императора Александра III, мощной рукой державшего всю страну в трепете и повиновении, и во время Петра Великого, расправлявшегося своей дубинкой со своими придворными и сотрудниками.
К сожалению, у государя не было мощной руки своего родителя, и он не унаследовал дубинки своего великого предка, и, будучи бесконечно добрым человеком, еще по наблюдению моего деда, говорившего об этом отцу, государь зачастую принимал разнородные решения, не желая огорчать докладчиков своим отказом по поводу тех или других их соображений.
Волею судеб этому искреннему стороннику мира пришлось пережить три войны. И если можно в чем-либо винить государя, и если вообще возможно такое обвинение, то только в твердом соблюдении раз данного слова даже в такой момент, когда это соблюдение было, быть может, не к выгоде управляемой им страны.
Кроме этого, государь был слишком большим семьянином, бережно охранявшим свой семейный покой, совершенно забывая, что бремя монарха зачастую не вяжется с семейным счастьем и даже подчас идет против него, что у монарха не может быть той семейной жизни, о которой привык мечтать государь. Но разве за это имеет кто-либо право винить его?
Глава V
В 1909 году моя мама впервые удостоилась быть представленной государыне… и первое впечатление о ней у мамы сложилось отрицательное. Я прекрасно помню, как мать, расстроенная, вернулась из дворца, рассказывая, что императрица приняла ее очень холодно, сказав ей всего лишь несколько слов. По первому впечатлению моей матери, государыня была горда и неприступна.
Но вскоре это первое впечатление рассеялось. После следующих приемов во дворце мать моя совершенно, раз и навсегда изменила свое мнение о государыне, которую она стала прямо-таки боготворить. Оказалось, что государыня очень застенчива по натуре, в особенности с неизвестными ей лицами, чему способствовала ее боязнь за свое неполное знание русского языка. Государыне всегда казалось, что она недостаточно хорошо говорит по-русски, что ее страшно нервировало и смущало. Это была с ее стороны ошибка.
Я должен засвидетельствовать, как человек, много раз говоривший с государыней, и даже подолгу, что государыня для иностранки прекрасно говорила по-русски, очень бегло, не задумываясь над словами, только иногда неправильно составляла фразы, и с небольшим акцентом, и не немецким, а английским. При втором или третьем приеме моя мать поняла причину казавшейся холодности государыни, взяла инициативу разговора на себя, к большому облегчению государыни, которая беседовала впоследствии с моей матерью вполне непринужденно.
В своем обращении с окружающими государыня, так же как и государь, была необычайно проста. Эта чарующая простота и чисто русское радушие на приемах располагали к ним всех, кто удостаивался приглашений. Государыня бесконечно ценила всех лиц, которые шли к ней с открытой душой, понимали ее переживания и сочувствовали ее горестям.
Но таких людей было мало. В припадке какого-то умственного маразма большинство считало своим долгом клеветать на эту святую женщину, не давая себе труда понять ее и обвиняя ее в ледяной холодности и заносчивой гордыне. Ошибочно думать, что их величества относились враждебно или отрицательно ко всем тем, кто позволял себе неодобрительно отзываться о Распутине.
Примером такого непримиримого противника Распутина являлся мой отчим, генерал Думбадзе, приказавший в 24 часа выслать из Ялты приехавшего туда Распутина. Несмотря на вмешательство дворцового коменданта, Распутин был посажен в автомобиль и ровно через 24 часа покинул пределы не только Ялты, но и ее уезда. Если Распутин и бывал впоследствии изредка в Ялте по несколько дней, то только благодаря своему поклоннику, исправнику Гвоздевичу, обставлявшему его приезд строжайшей тайной от моего отчима. Их величества об этом знали, и государь даже осведомился об этом у него самого и получил ответ, что Думбадзе не считает возможным допустить Распутина в Ялту по своим личным соображениям охраны, а также и просто потому, что он его не любит. Несмотря на это, их величества продолжали любить моего отчима, и он с их стороны, к зависти свиты и негодованию некоторых придворных поклонников Распутина, пользовался всегда их неизменным расположением. Не терпели только их величества тех людей, которые занимались грязными доносами на Распутина, зачастую весьма слабо мотивированными. Они чувствовали, что травля Распутина касается их самих, и верили, что чистый человек грязью запачкан быть не может.
Вначале мой отчим не допускал в Ялту и Моргенштерна, петербургского графолога, имевшего доступ во дворец, из-за его еврейского происхождения. Но за него по телефону энергично вступился министр двора, и мой отчим должен был сменить гнев на милость и разрешить ему месячное пребывание в Ялте и даже принял его у себя.
Моргенштерн оказался очень интересным человеком, великолепно определявшим характер по почеркам. Я был лично знаком с ним и помню следующий случай. Как-то приехал он к нам во время пятичасового чая, застав у нас гостившего брата И.А., Николая Антоновича Думбадзе. Он собирался куда-то ехать, но с приходом Моргенштерна задержался еще на балконе, где мы все сидели. Завязался оживленный разговор на тему о графологии, гипнозе и отгадывании чужих мыслей. Моргенштерн предложил собравшимся сделать опыт, а именно в его отсутствие что-нибудь сделать. Я помню, что вышел с ним из дома на плац, и когда нас позвали и мы вернулись, не успел он войти на балкон, как сказал:
– Дорогие братья поменялись фуражками.
Все ахнули. Как мог Моргенштерн угадать, мне это и по сей день непонятно, так как фуражки были у братьев совершенно одинаковыми и размер головы один и тот же.
Никакой роли при дворе Моргенштерн не играл. Их величества интересовались им только потому, что им были собраны тысячи автографов всех известных коронованных и некоронованных лиц того времени, причем он о своих исследованиях издал прекрасную книгу, научно обоснованную и снабженную факсимиле, которую и подарил на память моему отчиму.
Одной из драм в жизни государя было навязанное ему традицией, освященное веками, унаследованное им самодержавие, охранять основы которого он клятвенно обещал в день священного коронования. Совершенно не будучи по натуре самодержавным монархом, в силу данной клятвы государь всю свою жизнь пытался охранять врученные ему Господом права, не считал возможным дать России полную конституцию, видя в этом акте нарушение торжественно данного на кресте и Евангелии слова.
17 января 1895 года, то есть через несколько месяцев после вступления на престол, государь в краткой речи к собравшимся в Зимнем дворце представителям дворянства, земств и городов изложил основы своего будущего правления. Он сказал:
– Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время раздавались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии земства в делах внутреннего управления государством. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель!
Не думал тогда молодой государь, искренно делясь своими мыслями с, казалось бы, верными и лучшими своими подданными, что те с пеной у рта разнесут по всей России молву, что государь обещал в корне задушить всякое проявление прогрессивного характера, вступив на путь черной реакции…
Либеральное общество заволновалось, интеллигенция, мнившая себя почему-то государственно-образованной, вознегодовала, и травля против молодого царя как поборника «лютого самодержавия» началась и уже больше никогда не прекращалась.
Бессмысленные мечтатели не простили государю его слов и через двадцать два года воплотили свои мечтания в жизнь. Теперь же результаты этих осуществившихся мечтаний ясно показывают, чья политика была лучше: осмысленного ли «лютого» самодержца или «бессмысленных» псевдопатриотов в лице представителей земства, городов и части дворянства.
Прав был французский социалист Альберт Тома, приехавший в Россию после революции 1917 года, чтобы воочию убедиться «в красоте и величии», а главное, «в пользе для русского народа случившегося переворота», когда, осмотревшись и уезжая, сказал:
– Великим человеком был ваш бывший царь!
И когда его спросили: «Почему?» – он ответил:
– Удивительно, как он такой сволочью (канальями) мог управлять двадцать два года!
Намекал на ту безмозглую массу, которая в лице Совета солдатских и рабочих депутатов пыталась, вопреки здравому смыслу, забрать управление величайшим государством в мире в свои руки…
Удивительно лестная для нас рекомендация! Наши «товарищи» могут торжествовать.
Кем по отношению к России считал себя государь, ярко показывает следующий факт. Во время всеобщей переписи в январе 1897 года государь потребовал опросный лист и лично заполнил его.
На вопрос: «Чем занимаетесь?» – государь ответил: «Хозяин земли Русской», а на вопрос: «Какого сословия?» – «Первый дворянин».
Из-за того, что государь пытался охранять основы самодержавия, совершенно не следует, что он не считался с необходимостью для России конституционных реформ.
Государь не считал для себя возможным дать России конституцию, как я уже писал, в силу присяги на верность самодержавию и под влиянием революционного насилия и подчинился таковому требованию в памятные дни марта 1917 года лишь потому, что Россия изнемогала в борьбе с внешним врагом. Он всеми силами старался предотвратить междоусобную борьбу, в которой справедливо видел крушение не только империи, но и всей России. Ю.А. Ден, жена офицера Гвардейского экипажа, командира крейсера «Варяг», капитана 1-го ранга К.Е. Дена, одна из наиболее близких друзей государыни, передавала мне, что лично слышала из уст государя еще до революции, как он в кругу своей семьи развивал свои предположения на будущее время. Он говорил, что двадцатилетнее царствование и глубокие переживания за время войны настолько утомили его, что единственным его желанием является довести Россию до победоносного окончания войны и почетного славного мира, после чего он предполагал удовлетворить насущные народные нужды путем земельного вознаграждения всех участников войны, начиная с инвалидов и георгиевских кавалеров, провести в жизнь земельную реформу Столыпина (переход от общинного землевладения на отрубные хозяйства), создать особую комиссию по разработке широкой конституции, принимая во внимание все особенности русского уклада и быта, и в день совершеннолетия наследника отречься от престола в его пользу с тем, чтобы начало его царствования ознаменовалось дарованием этой реформы, дабы он в день своего коронования был бы первым русским царем, присягнувшим на верность конституции.
Государь считал, что народные массы, оздоровленные победоносной войной, проникнутые упоением победы и искренним патриотизмом, лучше, чем когда-либо, воспримут дарованные им права, и конституционная Россия сделается еще более могучей, чем под скипетром самодержавных монархов.
Государь был уверен, что война окончится в 1917 году полной победой России и союзников, в год, когда наследнику исполнится 12 лет, а к его 18 годам, то есть к 1922 году, предполагал, что все подготовительные работы по реформам будут закончены, и он сможет передать бремя власти своему сыну.
Иногда государь высказывал желание отречься от престола сразу же после войны, передав власть наследнику при регентстве своего брата.
Несомненно, что государь в своей безграничной любви к России готов был для ее счастья, пользы и величия принести любые жертвы и во всех своих мыслях и действиях руководствовался исключительно желанием помочь и быть полезным своей стране и управляемому им народу.
Само собой, что государь, как и всякий здравомыслящий человек, считал невозможным проводить во время войны какие-либо реформы, считая это гибельным для России.
Когда же грянула революция, государь доказал, что он, в сущности, самодержцем не был, поддался оказанному на него давлению и отрекся от престола, вместо того чтобы приказать повесить на первой перекладине всех этих Гучковых, Шульгиных, Рузских и направиться во главе верных войск в Петербург, где действительно железной, самодержавной рукой восстановить порядок и на деле доказать, что он действительно самодержавный монарх, что трон его непоколебим и что наиболее высокое место, на которое могут претендовать все эти Родзянки, Милюковы, Керенские и компания, находится на другой, не очень высокой перекладине.
Для меня ясно, что, будь государь в Царском Селе в эти дни вблизи семьи и государыни, он, вероятно, поступил бы иначе, так как одним из главных мотивов, вынудивших его на отречение, была, безусловно, боязнь за безопасность семьи, находившейся в Царском, и которая, несомненно, подверглась бы опасности в случае агрессивных действий с его стороны.
И государь был прав в своих опасениях. Никто из офицеров, находившихся в большом количестве на излечении в царскосельских лазаретах, и пальцем не пошевелил для защиты семьи своего императора в трагические дни конца февраля и начала марта 1917 года, и, казалось, вернейшие части войск первыми изменили ей.
В августе 1917 года во французской газете «Антант», издававшейся в Петербурге, был помещен фельетон, в котором автор поражался возмутительному равнодушию к судьбе своего монарха и его семьи, находившейся в заточении, со стороны русского офицерства, придворных кругов и дворянства, без обиняков называя их, то есть нас всех, изменниками, приводя весьма поучительный пример из Французской революции, когда за королем Франции и его женой шли на эшафот с последним предсмертным возгласом: «Да здравствует король!» его министры, свита и даже прислуга.
А во время переворота в 1792 году, при защите Тюильрийского дворца от мятежников до последнего, наемная швейцарская гвардия во славу короля Франции и его семьи сложила свои головы…
Глава VI
Во время приезда царской семьи в 1909 году я впервые увидел в гостиной своей матери А.А. Вырубову, личного друга государыни. Насколько я помню, она по первому же взгляду произвела на меня очень хорошее впечатление своей подкупающей ласковостью и добротой. Она очень мило отнеслась к нам, детям, и мы всегда были рады ее приезду.
Внешне она была очень красивой женщиной, невысокого роста золотистой блондинкой с великолепным цветом лица и поразительно красивыми васильковыми синими глазами, сразу располагавшими к себе. Кроме того, я познакомился тогда же с покойным Столыпиным и его семьей, министром юстиции Щегловитовым, министром народного просвещения Шварцем, со всеми членами свиты и двора и другими лицами, бывавшими по воскресеньям на приемных днях у моей матери у нас в доме.
Само собой, я не мог сохранить об этих людях, по тогдашней моей молодости, каких-либо воспоминаний политического характера. Но знакомство с ними и невольное прислушивание к их разговорам дали сильный толчок развитию моего мировоззрения, и к 12–13 годам во время последующих приездов государя в Ливадию я уже почти ясно учитывал те или иные политические события, положения и комбинации.
Во время первого приезда в Ливадию государь, желая лично на себе попробовать тяжесть солдатского снаряжения, два раза по несколько часов ходил в солдатской форме при полном ранце и винтовке как по Ливадии, так и вне ее, по окрестным горам. Один раз в форме стрелка 16-го стрелкового Императора Александра III полка, а другой – в форме солдата 52-го Виленского Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полка.
Оба раза он никем узнан не был, а встретивший его по дороге офицер небрежно отдал честь солдату, отбивавшему шаг с поворотом головы при встрече с ним, о чем государь, смеясь, рассказывал моему отчиму.
Результатом пробы государем снаряжения было его видоизменение. Лопатка, висевшая на левом боку и мешавшая при перебежке (в чем государь сам убедился), была пригнана иначе, и неудобный вещевой мешок был, начиная с гвардии, заменен более практичным ранцем.
В связи с этими прогулками государя в Ялте, а потом и по всей России получил распространение следующий анекдот. Встречаются два еврея, и один говорит другому:
– Абрамович, вы слышали, какой у нас государь храбрый?
– А что? Нет, не слышал.
– Государь два часа один, совсем один, понимаете, в солдатской форме ходил!
– Ну!.. Это и все? Какая же тут храбрость? Попробовал бы он надеть наш еврейский лапсердак и пройти мимо дома генерала Думбадзе! Вот тогда я сказал бы, что он-таки да, храбрый!
Когда генерал Дедюлин рассказал государю этот анекдот, его величество, расхохотавшись до слез, ответил:
– Ну, на это я, пожалуй, не решился бы! Передайте об этом Ивану Антоновичу…
О моем отчиме существует и другой анекдот.
В Ялте протекает небольшая горная речонка Учан-Су[8], во время жары совершенно высыхающая, но очень полноводная и бурная во время весеннего таяния снегов в горах.
Вот в эту речку попал случайно еврей и стал тонуть. Течением его несло к морю. Через Учан-Су в город перекинуто три моста. На одном из них стоял городовой, на другом – исправник Гвоздевич и, наконец, на третьем, у самого моря, сам Думбадзе. Городовой не обратил никакого внимания на крики о помощи несчастного еврея. Гвоздевич, увидев его, буркнул:
– Туда тебе и дорога!
Наконец утопавшего еврея стало подносить к месту, где стоял Думбадзе.
– Ваше превосходительство, спасите! Ваше превосходительство, помогите! – кричал еврей.
Но Думбадзе оставался глухим. Вдруг послышался из воды дикий вопль:
– Долой самодержавие! – вопил терявший силы еврей.
– Что? Да как ты смеешь, негодяй! – крикнул Думбадзе и приказал городовому вытащить еврея из воды. Уловка последнего удалась, и он был спасен.
Этот анекдот одно время был в большом ходу в Ялте и имел успех.