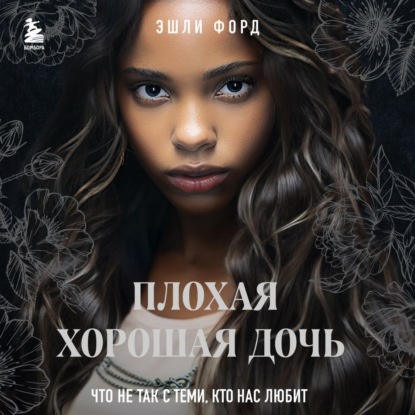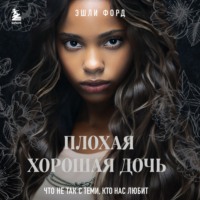Полная версия
Плохая хорошая дочь. Что не так с теми, кто нас любит
Мне было интересно, сколько моих знакомых уже научились разговаривать с Богом, и я задавалась вопросом, почему Бог дарует человеку только один способ общения с Ним. Разве это не скучно? Церковь и без того была достаточно скучной. Тем не менее никто другой не говорил о Боге так много, как моя бабушка, и это навело меня на мысль, что она, должно быть, ближе всех к Нему. Она должна была знать, какое обращение к себе Он предпочитает. Она всегда знала. Иногда о Боге говорила моя мама, а также несколько моих тетушек и взрослых друзей семьи – часто лишь для того, чтобы объяснить мне, как мое поведение огорчает Его. Насколько я знала, никто из них не разговаривал с Ним так, как бабушка. Но я знала не всех взрослых. У нас было так много родственников и друзей семьи, что всякий раз, как мать начинала общаться с кем-то тепло и с любовью, как со старым знакомым, мне казалось, будто это кто-то новый. И даже если я не знала человека раньше, то казалось, будто я забыла его, и мне нужно было напоминать, кто он такой. Фотографии в бабушкином шкафу хранили множество семейных историй, которых я прежде не знала, а некоторых не знаю до сих пор. Но мне всегда нравились истории.
Отложив фотографию бабушки в красивом платье, я взяла ту, которую еще не видела. В нижней ее части сидели мы с братом, заключив друг друга в объятия и преувеличенно широко улыбаясь на камеру – судя по всему, нам приказали так улыбаться. Нашу настоящую радость передают объятия на тусклом фоне. Края декорации смялись, и фотограф даже не потрудился их подрезать или выровнять. Пол выложен шахматной плиткой, нас окружают горохового цвета стулья различной степени изношенности. Над нами стоит улыбающаяся мама, устремив взор прямо в камеру. Ее обнимает мужчина с лицом брата. Глаза мужчины сияют счастьем. Я понимаю, что должна знать, кто это, но не знаю.
Без колебаний я поворачиваюсь к бабушке, протягиваю фотографию к ее лицу и спрашиваю:
– Кто это?
Бабушка прекратила сортировать одежду и посмотрела на фотографию.
– О, детка! – почти резко выпалила она, но смягчила ответ легким смехом.
Взяв фотографию у меня из рук, она поднесла ее поближе к глазам. Очки скользнули вниз по переносице, остановившись на самом округлом краю носа. Некоторое время она держала фотографию неподвижно, сжав губы и покачивая головой, а потом вернула мне.
– Страшный позор, что ты не узнаешь своего папу.
Я не помню времени, когда отец еще не находился в заключении, или попросту «в тюрьме», как я говорила на протяжении первых десяти лет жизни, но помню, как с трудом цеплялась за воспоминание о нем – за сам факт его существования. Маму, бабушку и брата я видела каждый день. Солнце приветствовало меня каждый день независимо от того, видела ли я его восход. Каждую ночь я молилась Богу, как меня учили. Я могла перечислить буквы алфавита, подпевать передаваемым по радио песням и даже завязывать шнурки при достаточной практике. Помнить обо всем этом было легко. Но образ моего отца, находящегося где-то далеко-далеко, исчезнувшего без всяких объяснений, постепенно угасал на заднем плане повседневной жизни четырехлетки, пока я окончательно не забыла, что и он когда-то был частью всего. Но прежде чем попасть в тюрьму, он тоже был дома, вместе со мной и мамой. Перед тем как исчезнуть, он любил меня.
Бабушка оглядела комнату, как будто кто-то мог нас слышать, а потом села на кровать рядом со мной. Я продолжала вглядываться в лицо мужчины, думая: «О да. Это мой папа». Я не сомневалась, что взрослые рассказывали мне о нем, но эти рассказы не запечатлелись в моей памяти. Наверное, тогда эта информация не показалась мне полезной. Наклонившись, бабушка сказала:
– Ты знаешь, как сильно он любил тебя?
Потом выпрямилась и посмотрела на открытую дверь. Далее слова полились из нее, как будто она сдерживала их долгое время и наконец-то смогла выпустить наружу.
– Твой папа брал тебя с собой почти всегда. Мог бы и на работу тебя привести, если бы было можно.
Она усмехнулась себе под нос и хлопнула меня по плечу, как старую подругу.
– Мама ужасно злилась на него за то, что он берет тебя с собой, знакомит со всеми, а ты ходила в одном носке, со следами молока в складках на пухленькой шейке!
Она уже покачивалась, еле сдерживаясь от хохота. Мамин голос в ее исполнении был высоким и жалобным, совсем не похожим на настоящий.
– И она еще говорила: «Хватит шляться где ни попадя с моей дочерью в таком виде!»
Мы обе рассмеялись, представив один из приступов гнева моей матери, как она сердится на отца в желании обезопасить меня. Мне нравилось думать, что мама оберегает меня и даже защитит от демона, если тот надумает еще раз явиться ночью.
– Ему хотелось хвастаться тобой при каждом удобном случае, а маме хотелось, чтобы ты выглядела прилично. Уж очень они оба любили тебя. Просто были молодыми.
Последнюю фразу бабушка произнесла как бы в оправдание, и я не понимала почему.
– Когда твоего отца посадили, я была в Миссури и даже не сразу узнала… – Она сомкнула губы, закрыла глаза и немного посидела молча – то ли что-то вспоминая, то ли подбирая нужные слова. – Когда же я вернулась из Миссури, твоя мама поджидала меня у двери моего дома, беременная твоим братом, вся в слезах. Вцепилась мне в юбку и повторяла: «Я так скучаю по нему, мама, так скучаю».
Бабушка постаралась как можно живее передать чувства моей матери, напрягая каждый мускул своего лица, чтобы передать душевную боль своей дочери. Потом посмотрела на свои руки.
– А я даже не знала, в чем дело. Но велела собраться с силами и пройти в дом. Она была так расстроена, что твоего отца забрали. Я не знала что сказать. Ну да, так уж получилось, что ему пришлось уехать. Но это не значит, что он не любил вас всех. Я знаю, он любил.
Мою грудь переполняла благодарность бабушке за фотографии и за историю о моем отце. Да, папа любил меня, а мама оберегала. Но буквально через несколько секунд мне в голову пришли грустные мысли.
Я вспомнила, как однажды бабушка рассказывала мне про Бога: «Во время молитвы не нужно просить о чем попало. Нужно благодарить Бога и молиться о том, чтобы он знал, что ты думаешь о правильных вещах». Ее слова потрясли меня. Я не знала, что должна думать о чем-то конкретном в угоду Богу. В панике я попросила бабушку сказать, что же это за «правильные вещи», чтобы в следующий раз думать именно о них. Она ответила таким тоном, будто я была ужасно глупым ребенком, задающим ужасно глупые вопросы, но с которым нужно поделиться какой-то очень важной тайной.
– Просто веди себя хорошо, и тогда тебе не нужно будет ни о чем беспокоиться.
Потом повернулась и продолжила беседовать с другой прихожанкой, тоже чьей-то бабушкой, с таким видом, будто этот разговор ни в коем случае нельзя было прерывать. А голова у меня продолжала кружиться. Я не понимала, почему она просто не сказала, чего хочет от меня Бог. Но теперь я задалась вопросом: а вдруг Бог разозлится на меня за то, что я забыла того, кто любил меня?
Вместо того чтобы задавать бабушке очередные вопросы, вернувшись в ее спальню, в окружении снимков людей, каждый из которых заслуживал отдельного упоминания, я решила сказать ей нечто очень важное.
– Я буду молиться о папе.
Мне казалось это хорошей идеей – не забывать его и добавлять его имя в свои серьезные молитвы перед сном.
– Детка, – сказала бабушка, вставая с кровати и подхватывая рукой последние неразложенные предметы одежды, – Бог и вправду удостоил тебя своим присутствием.
Отвернувшись к шкафу, она посмотрела на часы и сказала, что ожидает с минуты на минуту прихода своей подруги Венди. Потом поцеловала меня в лоб и сказала, что ей нужно подготовиться.
– Иди поиграй с братом. Он, наверное, уже обыскался тебя.
Я бросилась вниз по лестнице, прошла через бабушкину кухню и вышла на общее заднее крыльцо. Я закрыла за собой дверь, но вместо того, чтобы последовать ее совету, преодолела одним прыжком несколько ступенек, ведущих на задний двор, легла спиной на траву и попыталась вызвать в памяти отца. Посреди танцующих солнечных пятен я воображала, как папа водит меня, показывая своим знакомым, с горящими глазами и белозубой улыбкой, спрашивая каждого, не удостоился ли еще тот чести познакомиться с его потрясающей крошкой. Я попыталась представить, как мама добродушно распекает его за мой внешний вид, но внутри едва не лопается от гордости за то, что я – ее дочь, такая чудесная и великолепная.
Та фотография, на которой мы были запечатлены вчетвером, навсегда осталась у меня в памяти. Наши тела соприкасаются, и все мы подались вперед, как будто в любой момент готовые изобразить плохо отрепетированную фигуру танго или вальса. На этом снимке мы застыли вместе, одновременно счастливые, печальные и испуганные. В тех образах, которые я представляла себе, пока лежала на траве, и которые надеялась сохранить; мы все, танцуя, выходили из ворот тюрьмы, а в наших глазах и улыбках отражалась радость. Снаружи нас поджидал толстый слой только что выпавшего снега.
5
Мама познакомилась с приехавшим из Флориды мужчиной, двоюродным братом какой-то ее знакомой, и сошлась с ним. Мы иногда приходили к нему. Брата обычно оставляли с одной из теток или с бабушкой, потому что он был еще совсем маленьким и требовал много внимания, а я в четыре года была более покладистой. В детстве мы часто рассматривали его фотографию, которую я не видела уже много лет. На том снимке он сидел посреди коридора нашего дома, склонив свое пухлое тельце набок и едва не касаясь головой пола, с ужасно жалобным видом, и кричал прямо в объектив. «Он никуда меня не пускает!» Мама показывала всем эту фотографию с недовольным видом, но втайне гордясь. Брат, в отличие от меня, постоянно тянулся к ней, я же чаще предпочитала гулять где хочется. Я умела исчезать. Иногда маме бывало нужно, чтобы я исчезла.
После ареста отца ей пришлось как-то устраивать личную жизнь, и тот мужчина показался подходящей кандидатурой. Он был достаточно милым, хотя, по словам бабушки, «слишком путался с женщинами». Он уверял маму, что покончил с той, которую они всегда называли только «она». Иногда они даже ссорились по поводу «нее». Однажды они устроили настоящую драку и он швырнул в маму пакет с замороженным хлебом, но промахнулся и попал мне в лицо.
Я ощутила внезапно вспыхнувшую боль, а потом из моего носа ручьем хлынула кровь, перепачкав мне блузку. Мама отвела меня в ванную, усадила на унитаз и принялась промокать нос ватными тампонами. Я не плакала. Я боялась, что мой нос сломался от удара или от слишком сильного нажима, но мне не хотелось, чтобы мама оставалась одна или сердилась на меня. К тому же тот мужчина мне нравился. Он был добр ко мне и всегда дарил большие шоколадные батончики, которые хранил на нижней полке холодильника. Я настаивала, что все в порядке и мне не больно.
Но мама все равно плакала и кричала своему ухажеру:
– Посмотри! Посмотри, что ты сделал с моей малышкой!
Она продолжала зажимать мне нос туалетной бумагой, и мне действительно становилось больно. Мама плакала как обычно – так, что из ее глаз слезы текли потоком, и при этом повторяла что-то малопонятное. Что-то произошло между ней и этим мужчиной. Может быть, связанное с «ней», я не знаю. Но мне хотелось, чтобы мама перестала плакать. Мне ужасно не нравилось, когда она плакала, или кричала, или просто была чем-то недовольна. Я позволяла ей засовывать мне в нос одну салфетку за другой и не жаловалась. Ее слезы говорили о том, что она боится, а мне не хотелось, чтобы она боялась за меня.
Ее ухажер стоял у двери в ванную, сначала обхватив лицо ладонями, а затем засунув руки в карманы. Он поглядывал на маму с грустным видом, а когда переводил взгляд на меня, то казался еще печальнее. Потом он присел передо мной, взял меня за руку и заглянул мне прямо в глаза.
– Извини, мне очень жаль, – сказал он. – Прости.
– Ничего, все нормально.
Он смотрел прямо на меня, но было такое впечатление, что обращается он не ко мне. Я не знала ни одного взрослого, кто извинялся бы перед ребенком, так что его извинения казались мне неестественными, как и слезы матери. Мне не хотелось, чтобы кто-то меня жалел; мне не хотелось, чтобы из-за меня кто-то плакал. Мне хотелось как можно быстрее все это прекратить.
– Все в порядке, – сказала я. – Я прощаю вас.
Насколько я помню, это был первый случай, когда я произнесла такие слова в чей-то адрес. Он стал первым в длинной череде мужчин, которые пытались загладить свою вину передо мной. Тогда я еще не понимала, что у меня есть выбор и что можно не прощать. Особенно когда приносящий извинения человек на самом деле не испытывает никаких угрызений совести.
И все же было приятно, что перед тобой извиняются, неважно кто или за что. До тех пор еще никто не извинялся передо мной за то, что ударил меня. Мне понравилось ощущение того, что я достойна извинений за то, что мне причинили боль, даже если не хотели. Как будто мои чувства имели значение.
Мама никогда не извинялась.
В одном из воспоминаний, которых у меня не должно было остаться, я находилась на кухне, а мама собиралась выпрямлять мне волосы. Я стояла на табуретке или на стуле и была еще недостаточно высокой, чтобы дотянуться до раковины, где мне собирались мыть голову. Меня обманом завлекли сюда улыбающиеся взрослые, то и дело спрашивавшие: «Хочешь, чтобы у тебя была хорошенькая прическа?» – более высокими, чем обычно, голосами. Я не понимала, что значит «хорошенькая прическа», но мне нравилось, как вытягивались их лица при этом вопросе.
И вот мама нависла надо мной и обхватила мою голову красивыми руками, которые я унаследовала от нее. Ее длинные пальцы нанесли мне на голову средство для выпрямления волос. Я не знала, что оно ужасно жгучее. Может, меня и предупреждали, но к тому моменту я об этом забыла, и мне показалось, что кто-то подкрался и поджег мне голову. Как будто по голове у меня замаршировали огненные муравьи. Мама нагнула мне голову и подставила под кран из нержавеющей стали. Тельце мое замерло в нерешительности.
По мере того как моя голова погружалась в раковину, звук воды, ударявшейся о дно и разбрызгивавшейся по сторонам, становился все более похожим на шум прибоя на пляже, который я видела только по телевизору. Огонь на голове, крепко вцепившиеся в нее мамины руки и тревожный гул из раковины – все это заставило меня замереть, застыть на месте. Я просто стояла как вкопанная, не желая поворачивать голову ни в ту, ни в другую сторону, как просила мама. Это ее очень рассердило.
Мама схватила меня за затылок своей мощной рукой и повернула мою голову под струю воды. Вода затекала мне в глаза и в нос, и лишь небольшая ее часть попала на краешки волос. Оглушающее эхо воды заполнило мои уши, и тут все пошло наперекосяк. Открывая глаза, я видела лишь размытые очертания маминого лица, продолжавшие таять. Я едва узнавала цвет ее кожи, волос и одежды. Но когда я переводила взгляд на раковину, когда закрывала глаза, то уже не понимала, кто меня держит. Я ничего не ощущала – ни вкуса, ни запаха, ни звуков. Проникшая в нос вода угрожала достичь горла и застрять там. Из всех ощущений осталась одна лишь боль. Я не могла дышать. Я открыла рот, чтобы закричать, но туда хлынул поток воды. Я задохнулась, закашлялась и смогла лишь выдавить из себя: «Мама!»
Чуть-чуть приподняв голову, я с укором посмотрела на мать. Все это время со мной была она. Она даже не пыталась утешить меня и не извинилась. Просто бросила на меня ответный взгляд и сказала: «Хватит строить из себя недотрогу». Я не знала, что это значит, но мне не хотелось неприятностей. Более того, я до сих пор рассчитывала на «хорошенькую прическу». Медленно я опустила голову над раковиной, и она снова принялась втирать мне средство для выпрямления волос. На этот раз нежнее. Сказать по правде, было приятно, когда его смывали. Но напряжение не спадало.
Потом мне помыли волосы, обработали кондиционером, намылили шампунем, снова помыли, снова нанесли шампунь, прополоскали, вытерли полотенцем досуха, смазали и пригладили, после чего они стали блестящими. Темными, как у мамы, свисающими почти до плеч. Я посмотрела на себя в зеркало, и увиденное мне понравилось. Прическа и в самом деле была «хорошенькой». Но в глазах у меня продолжало щипать, в ушах хлюпала вода. Охватившее все тело напряжение не спадало, и я очень устала.
Мама, улыбаясь мне в зеркало, внимательно наблюдала за моей реакцией и ожидала одобрения. Всего лишь несколько мгновений назад она превращалась в чужого мне человека, обхватывая мое непокорное тело своими руками. «Для пережитого прическа не очень хорошенькая». Никогда не забуду мамино лицо, которое я разглядела сквозь пелену воды, – оно выражало непримиримую ярость. Не такое воспоминание мне хотелось бы хранить.
6
В те дни настроение мамы становилось игривым чаще обычного. Она, конечно, продолжала время от времени сердиться на меня с братом, но и играла с нами, и нам это нравилось.
Одной из любимых придуманных ею игр была игра под названием «Я не ваша мама». При этом она выключала весь свет в доме и грозно произносила: «Я. Не. Ваша. Мама!»
Мы с братом визжали, размахивали руками, бегали по комнате, пытаясь найти место, чтобы спрятаться. Мама преследовала нас, рыча и хватая нас своими длинными руками, но намеренно промахиваясь, пока наконец не решала поймать одного из нас. Потом она притворялась, что пожирает наши руки с ногами и лица. Дальнейшая игра состояла в основном из щекотки, и мы хохотали так, что едва могли дышать. Игра была веселой до тех пор, пока однажды я не восприняла ее всерьез. Когда мама схватила брата и сделала вид, что «ест» его, он закричал: «Хэши! Помоги!»
На секунду мне показалось, что ему вовсе не весело. На секунду я разглядела Мать за лицом Мамы. Уж слишком резким был его голос, а она потеряла контроль. Осознав это, я бросилась на кухню и схватила нож. Потом понеслась обратно в комнату, держа нож над головой, и пригрозила матери, склонившейся над копошившимся под ней Ар-Си:
– Отойди от моего брата!
Мама, заметив блеск ножа в полумраке, тут же отпустила брата, подбежала к ближайшему выключателю и включила свет. Увидев меня, четырехлетнюю, готовую едва ли не до смерти защищать своего самого любимого в мире человека, она рассмеялась.
Она смеялась так громко, что не могла остановиться. Ее неконтролируемый смех заразил нас с братом. Мы все трое попадали на пол, держась за животы, и катались от хохота. Мама смеялась, пока не обмочилась, а потом захохотала еще сильнее.
Тогда мы играли в эту игру в последний раз, но были и другие.
Иногда мы с мамой и братом носились по всему дому, проверяя все подушки, уголки и потайные места в поисках завалявшихся монет. Мама хранила банку с монетами в один, пять, десять и двадцать пять центов, которые находила на дне своей сумочки. И хотя мы иногда погружали свои руки в банку перед очередной поездкой на рынок Браунли – где мы с братом покупали дешевые сладости из стеклянных банок, которые, по нашему мнению, принадлежали самому мистеру Браунли, – хранилище это постоянно наполнялось.
Когда мама говорила, что пора разменять мелочь, это означало, что мы отправляемся в банк, где нужно было бросать наши металлические кругляши в большую спиральную трубу, выплевывавшую зеленые бумажные деньги. Мама иногда протягивала нам с братом доллар на хранение, а иногда и не протягивала. В любом случае я не жаловалась. Мне было достаточно самой поездки, которую я воспринимала как совместное приключение, и наблюдения за волшебной машиной, которая съедала нашу мелочь и выдавала что-то взамен.
Мне самой хотелось стать одной из таких волшебных машин, выплевывающих настоящие долларовые бумажки, и однажды я подговорила брата съесть центовые монетки из маминого запаса. Я еще тогда размышляла, сколько этих медных дисков мы смогли бы съесть. Потом мы глотали их одну за другой, не останавливаясь, и брат усердно пытался поспевать за мной – мой самый верный друг, готовый принять участие в любой придуманной мною игре. Так мы пожирали монеты, пока оказались физически не в состоянии продолжать, а потом, как всякие крепкие и здоровые дети, отвлеклись на какую-то другую затею и забыли об этом.
Дня через полтора, когда мы с братом принялись по очереди бегать в туалет, мама что-то заподозрила. К тому времени мы уже были приучены к самостоятельному посещению туалета, но не всегда помнили о том, что за собой нужно смывать, поэтому через какое-то время после очередного визита в уборную одного из нас оттуда донесся крик. Мы с братом вскочили и ворвались через открытую дверь в туалет, где мама с ужасом взирала на унитаз. Мы тоже с ужасом уставились на него, опасаясь, что по ошибке спустили туда то, что спускать было нельзя, вроде ключей от машины или головы куклы. Но там лежала всего лишь обычная какашка. Однако при более внимательном рассмотрении оказалось, что не такая уж она и обычная. Да, это была какашка, сомневаться не приходилось, но она блестела. Продолжавшие тихо обтекать ее струйки воды обнажили медные монетки, отражающие свет лампы.
– Вы что, говнюки, совсем с ума сошли? – Мама не моргала, но ее поразительно спокойный голос подсказал нам, что нужно держаться как можно тише. – Вы мне унитаз чуть не разбили!
Она опустила сиденье с шумом, заставившим меня подпрыгнуть. Мы ожидали, что она нас сейчас поколотит, как Мать, плоть от плоти которой мы были, но она просто рассмеялась. Она все хохотала и хохотала, задавая вопросы воображаемому собеседнику:
– И чьи это только дети?
Мы с братом тоже засмеялись, но не успели по-настоящему развеселиться, как мама замолчала.
– Еще раз так сделаете, я голову вам оторву. Поняли?
Мы сказали, что поняли, и вышли из туалета вслед за ней. Она легла на диван, покачивая головой и хихикая.
Я всегда пыталась догадаться, какой мне следует быть, чтобы не расстраивать ее. И угадывала не так уж часто. Я не понимала, что мне не следует повторять сплетни мамы или бабушки, пока примерно год спустя к нам в дверь не постучала одна женщина. Раньше она жила над нами в квартире моих тети с дядей, и мама с бабушкой шептались о том, как из ее квартиры в нашу перебегают тараканы, причем бабушка утверждала, что по крайней мере один раз видела, как насекомое проделало весь путь от одного жилища к другому. Завидев соседку, они переглядывались и иногда добавляли как бы в качестве объяснения: «Наркоманка».
Стук повторился, и мама попросила меня посмотреть через окно, кто там. Я выполнила просьбу, а потом повернулась и громко произнесла на всю комнату:
– Да это та тетя-наркоманка сверху.
Мама быстро выплеснула свое раздражение на мою задницу. Я совершенно не понимала, что я сделала не так. Боль остро расплылась по всему моему телу и отпечаталась в сознании. Я была в растерянности. Я не понимала, как стать таким ребенком, каким моя мать хотела меня видеть. Но, быстро отшлепав меня, она столь же быстро рассмеялась. Позже она рассказывала эту историю другим родственникам, едва не задыхаясь от смеха.
– Поверить не могу, что она так сказала! Клянусь, в тот день ее заднице пришлось несладко!
При этом на лице мамы расплывалась улыбка, какую я видела редко. Она как бы освещала все лицо, от линии волос до подбородка. Мне эта улыбка казалась самой замечательной. Я не была против того, чтобы она рассказывала такие истории. После того как забываешь о боли, смеяться над шутками становится легче. Иногда эта улыбка заставляла меня забыть о боли, и я тоже смеялась. Со временем смеяться, забывая о боли, оказывалось все легче и легче.
7
Маме хотелось все время находиться со своим ухажером. Тот был совсем не против, но свою роль играли расстояние, молодость, а также всегда пребывающая на заднем плане какая-то другая женщина. Долго их отношения продолжаться не могли. Как быстро он возник в ее жизни, так же быстро из нее и пропал. Кульминацией первой стадии тех отношений стал мой второй брат, родившийся бездыханным. Бабушка говорила, что он родился маленьким и серым, с искривленным позвоночником. Повторяя эту историю, она поднимала очки, морщила нос и указательным пальцем проводила в воздухе волнистую линию, показывая очертания его тельца. По ее словам, моя мама часами держала его в своих руках, целовала его головку и прижимала к груди, раскачиваясь.
Мама не собиралась заводить очередного ребенка, тем более внебрачного. Но вариант аборта она никогда не рассматривала, так что плод продолжал расти внутри нее. Мама не могла представить, как хорошая христианка сможет оборвать жизнь ребенку, даже если не может обеспечить его всем необходимым, а моя мать очень хотела быть хорошей христианкой. Но беременеть она тоже не хотела. Когда ребенок родился мертвым, она обвинила себя в том, что именно ее нежелание привело к подобному исходу. Назвала она его в честь его отца. Его могилку никак не отметили.