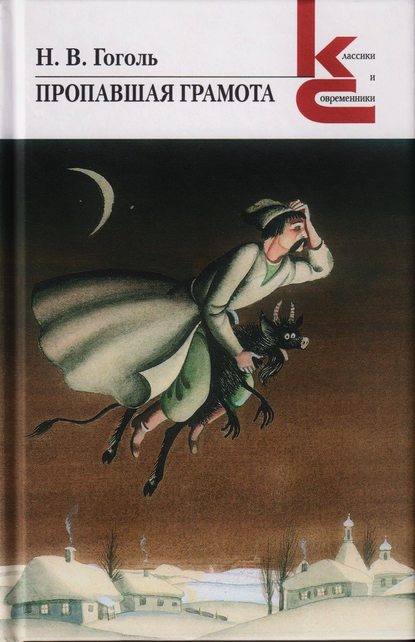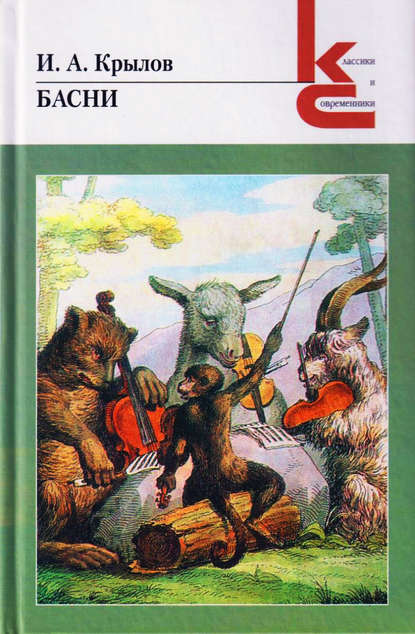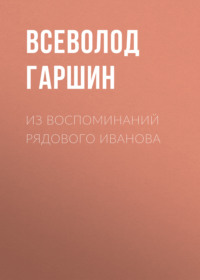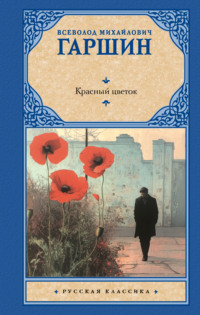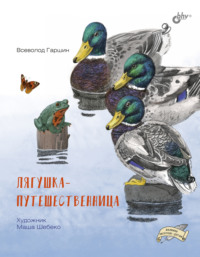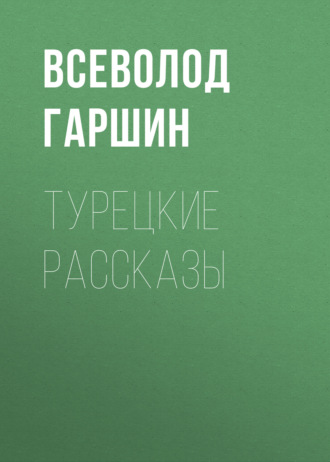
Полная версия
Турецкие рассказы
Понесло резким утренним ветерком. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звезды померкли. Темно-синее небо посерело, подернулось нежными перистыми облачками; серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего… Как это назвать? Жизнь? Агония?
Третий… Сколько их еще осталось? Во всяком случае, немного… Я очень ослабел и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа. Скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу.
Нужно напиться. Буду пить три раза в день: утром, в полдень и вечером.
Солнце взошло. Его огромный диск, весь пересеченный и разделенный черными ветвями кустов, красен, как кровь. Сегодня будет, кажется, жарко. Мой сосед – что станется с тобой? Ты и теперь ужасен.
Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная от природы, побледнела и пожелтела; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись, и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горою. Что сделает с ним солнце сегодня?
Лежать так близко к нему невыносимо. Я должен отползти во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться; но – передвинуть свое тяжелое, неподвижное тело? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час.
Все утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная, но что мне она теперь? Я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека. Я даже будто привык к боли. В это утро я отполз-таки сажени на две и очутился на прежнем месте. Но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние до того сильное, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается; все внутренности переворачиваются. А зловонный, зараженный воздух так и плывет на меня.
Я прихожу в отчаяние и плачу… Совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспамятстве. Вдруг… Не обман ли это расстроенного воображения? Мне кажется, что нет. Да, это – говор. Конский топот, людской говор. Я едва не закричал, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? К этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненые ноги… Хорошо, если еще только это; но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если это – наши? О проклятые кусты! Зачем вы обросли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них; только в одном месте будто окошко между ветвями открывает мне вид вдаль, в лощину. Там, кажется, есть ручеек, из которого мы пили перед боем. Да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручеек как мостик. Они, наверно, поедут через нее. Говор умолкает. Я не могу расслышать языка, на котором они говорят: у меня и слух ослабел. Господи! Если это наши… Я закричу им; они услышат меня и от ручейка. Это лучше, чем рисковать попасть в лапы башибузукам. Что ж они так долго не едут? Нетерпение томит меня; я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он нисколько не ослабел.
И вдруг на переходе через ручей показываются казаки! Синие мундиры, красные лампасы, пики. Их целая полусотня. Впереди, на превосходной лошади, чернобородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей, он повернулся на седле всем телом назад и закричал:
– Ры-сью, ма-арш!
– Стойте, стойте, бога ради! Помогите, помогите, братцы! – кричу я; но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипенья, – и меня не слышат!
О, проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из опрокинутой мною фляжки течет вода, моя жизнь, мое спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю.
Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал неподвижно, с полузакрытыми глазами. Ветер постоянно переменялся и то дул на меня свежим, чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, – подумал я, – вот ее изображение».
А солнце жжет и печет по-прежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю. Жажда мучила так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил все. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня! Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучили бы час, два, а тут я и не знаю еще, сколько времени придется валяться здесь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страдание людям войну!
Но вы с Машей, должно быть, и не услышите о моих муках. Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь! Ах, как тяжко, горько! Под сердце подходит что-то…
Опять эта беленькая собачка! Дворник не пожалел ее, стукнул головою об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива. И мучилась еще целый день. А я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые три дня. Завтра – четвертый, потом пятый, шестой… Смерть, где ты? Иди, иди! Возьми меня!
Но смерть не приходит и не берет меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтоб освежить воспаленное горло, и труп заражает меня. Он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Как они копошатся! Когда он будет съеден и от него останутся одни кости и мундир, тогда – моя очередь. И я буду таким же.
Проходит день, проходит ночь. Все то же. Наступает утро. Все то же. Проходит еще день…
Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают. «Вот ты умрешь, умрешь, умрешь!» – шепчут они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» – отвечают кусты с другой стороны.
– Да тут их и не увидишь! – громко раздается около меня.
Я вздрагиваю и разом прихожу в себя. Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.
– Лопаты! – кричит он. – Тут еще двое, наш да ихний.
«Не надо лопат, не надо зарывать меня, я жив!» – хочу я закричать, но только слабый стон выходит из запекшихся губ.
– Господи! Да никак он жив? Барин Иванов! Ребята! Вали сюда, наш барин жив! Да доктора зови!
Через полминуты мне льют в рот воду, водку и еще что-то. Потом все исчезает.
Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанные раны не болят; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле…
– Сто-о-ой! О-опуска-а-й! Санитары, четвертая смена, марш! За носилки! Берись, поды-ма-ай!
Это командует Петр Иваныч, наш лазаретный офицер, высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослые солдата.
– Петр Иваныч! – шепчу я.
– Что, голубчик?
Петр Иваныч наклоняется надо мною.
– Петр Иваныч, что вам сказал доктор? Скоро я умру?
– Что вы, Иванов, полноте! Не умрете вы. Ведь у вас все кости целы. Этакий счастливец! Ни кости, ни артерии. Да как вы выжили эти четыре с половиною суток? Что вы ели?
– Ничего.
– А пили?
– У турка взял флягу Петр Иваныч, я не могу говорить теперь. После.
– Ну, господь с вами, голубчик, спите себе.
Снова сон, забытье…
Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сестры милосердия, и, кроме них, я вижу еще знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне:
– Ну, счастлив ваш бог, молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли; ну, да ведь это пустяки. Можете вы говорить?
Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано.
1877 г.
Аясларское дело
I
Мы две недели стояли в Ковачице. Вяло, однообразно течет лагерная жизнь, когда нет никакого дела, да еще в такой глуши. Впрочем, глушью Ковачицу назвать было бы несправедливо: в ней находился наш корпусный штаб, почтовое отделение – словом, средства узнать что-нибудь, что делается в окружающем мире, а главное, на обоих театрах войны и в далекой дорогой родине. Мы, по правде сказать, все-таки не были избалованы свежестью и обилием новостей, да к тому же они часто являлись к нам обезображенные и преувеличенные. Темные слухи о первых плевненских неудачах были до того преувеличены, что только газеты двух- и трехнедельного возраста рассеяли мрачность, царившую среди офицеров. Кажется, по прямой дороге из Плевны к нам было бы ближе, чем через Петербург и Москву, однако «коли в объезд – верста, а напрямик – пять», – говорится в сказке.
Наша бригада скучала. Правда, один раз часть Нежинского полка ходила на рекогносцировку, или, вернее, для наказания вооруженных и восставших жителей, в Лом. Пошли, наказали и вернулись. Одного потеряли убитым, и один солдат спасся каким-то чудом.
– Стали мы ворочаться, а башибузуки издали попаливают. Приотстал я маленько: выстрелить обернулся; только стал подгонять – как хватит она меня в спину! Да неловко пришлось – в шинель угодила. Семь сукон пробила, в восьмой запуталась.
«Она» – конечно, пуля. У солдатика действительно в развернутой шинели оказалось семь причудливо расположенных дыр.
– И только, братцы мои, поспел я крест на себя положить, глянь – торбочку дернуло, а в ней две дыры у самой ноги, и крошки сухарные сыплются!
– Отведала, да и ушла. Нескусны наши российские сухарики! – острит кто-то.
Между тем как мы стояли в Ковачице и, по выражению некоторых, «кисли», впереди, на боевой линии, у Попкиоя, часто происходили стычки.
9 августа наш полковой доктор назначил «телесный смотр». Собираться к третьему батальону (который стоял отдельно). Наша рота собралась раньше всех; нас выстроили и повели на место сбора. Это была небольшая площадка, свободная от палаток и орудий. Здесь мы остановились; доктора не было, и приходилось ждать. От нечего делать я стал смотреть на палатки. Странную картину представляет лагерь в военное время. Маленькие солдатские палатки ярко белеют, облитые солнцем; ружейные козлы и разноцветные фигуры солдат пестрят этот белый фон. Преобладают лиловые цвета пестрядинных рубах; затем краснеют кумачовые, желтеют, алеют, зеленеют ситцевые. Черные мундиры надеваются разве только на какую-нибудь службу: все предпочитают самое неумеренное дезабилье. Тут голые ноги, там голая спина и грудь. Сапог не надевают потому, что жарко, да и беречь их надо, тысяча верст похода дала им себя знать.
Мы ждали довольно долго; кто-то пошел доложить доктору, что люди собираются. Но нам, видно, не суждено было испытать «телесного смотра». В палатку командира третьего батальона вбежал полковой адъютант, и тотчас же очень низенький и полный майор Ф-ский вылетел из палатки почти без всякого одеяния, снятого им с себя по случаю жары.
– Третий батальон, снимай палатки! Ранцев не брать! – звонко закричал он.
И затем скрылся в своем помещении, которое тотчас же было снято и обнаружило майора, сидящего на складном табурете и надевающего, при помощи денщика, различные необходимые части туалета. Между тем третий батальон сразу изменил свой вид. Из всех палаток, как муравьи, вылезли люди; быстро надевались мундиры, палатки исчезали, свертывались, шинели скатывались. И через пять минут после появления майора Ф-ского из палатки вместо пестроты спокойного бивуака явились темные стройные ряды! Кое-где солнце играло на штыках, на стволах ружей. Офицеры бежали к батальону, застегивая на ходу портупеи. Сам майор вышел перед батальоном, уселся при посторонней помощи на коня и скомандовал: «Из середины, рядами!» Раздались команды ротных командиров. Человеческая масса всколыхнулась, и из темного четырехугольника начала змеею вытягиваться походная колонна. Куда она пойдет? Майор, выехав на дорогу, повернул налево и повел колонну к Попкиою.
Не успел батальон вытянуться по дороге, как прибежал наш дневальный.
– Кузьма Захарыч, ведите роту, выступаем! – кричал он.
– Без ранцев? – спросило вдруг несколько голосов.
Вопрос был первостатейной важности. Из всех невзгод солдатской походной жизни едва ли не третью часть причиняет «телятина», или «теленок», как прозвали солдаты свой неудобный походный мешок. Иные зовут его еще «комодом». Этот «комод» причиняет боль в плечах, давит грудь, утомляет ноги, уменьшая устойчивость тела; под ним, даже в свежую погоду, спина взмокает после пяти минут ходьбы. Поэтому неудивительно, что оставление ранцев было встречено общим сочувствием[6].
Бегом пустилась рота к своему бивуаку. Здесь уже все собрались; ранцы были свалены в кучу, палатки сняты. Мы торопились одеваться. Как ни любит русский человек погалдеть при всяком удобном случае и когда он находится в скопе, но все было тихо. Меня всегда удивляла эта тишина во время сборов по тревоге.
Через четверть часа мы выступили. От Ковачицы до Попкиоя всего верст 9-10. Но хотя мы шли и налегке, без ранцев, а только с шинелями, перекинутыми через плечо, с закатанными в них палатками, эти 10 верст нас совершенно измучили. Жара была смертная, больше 35 градусов в тени, и ни малейшего ветерка. Как будто бы все умерло: кукуруза не шелестела своими еще темно-зелеными листьями; ветви и листья попадавшихся нам грушевых дерев были неподвижны. Ни одной птицы не увидали мы во все время перехода. Солдаты изнемогали уже после четырех верст пути. Когда, на полудороге, нам дали отдых у колодца, люди, едва успев составить ружья, буквально попадали на землю.
– Отвыкли ходить, Таврило Васильевич? – обратился я к своему соседу.
Он лежал с полузакрытыми глазами и тяжело дышал.
– Да! Вот не походи ты недельки две, ведь как избалуешься! – глухо отвечал он. – Пойдемте водицы испить.
Мы встали и пошли доталкиваться к колодцу, или, вернее, фонтану. Из железной трубки, вставленной в стенку в рост человека, сложенную из дикого камня, чистая прозрачная струя текла в каменное корыто. Солдаты теснились, доставая воду, и обливали друг друга, перенося полные воды манерки через головы соседей. Мы напились и набрали воды в свои бутылки.
– Ну, полегчало; можно и опять в поход, – сказал Таврило Васильич, утирая рукавом свои белокурые усы и бороду.
Он был замечательный красавец, голубоглазый, стройный, ловкий. Он лежит теперь на Аясларской горе, и от его голубых глаз и прекрасного лица уже ничего не осталось.
Дав отдохнуть полчаса, майор Ф. повел нас далее. Чем ближе мы подходили к Попкиою, тем становилось труднее и труднее. Солнце пекло с какою-то яростью, будто торопилось допечь нас, пока мы еще не пришли на место и не спрятались от жары в палатки. Некоторые не выдержали этой ярости: едва бредя с опущенною головою, я чуть не споткнулся об упавшего офицера. Он лежал красный, как кумач, и судорожно, тяжело дышал. Его положили в лазаретную фуру.
Полутораверстный подъем из долины, по которой мы шли, на правый склон ее показался нам хуже всей дороги. Запахи, дающие себя знать при приближении ко всякому лагерю, еще прибавляли духоты. Как дошел я – решительно не помню, но все-таки дошел; другие были менее счастливы. Едва таща ноги, мы перестроились в порядок, в котором должны были расположиться на отдых, и, едва стоя на ногах, дождались наконец благословенного возгласа майора Ф.:
– Составь!
То есть составь ружья и делай что тебе угодно.
II
Люди так измучились, что даже невыносимая жажда не могла заставить их идти за водою. Только через полчаса собрались команды с манерками и отправились в деревню. На том склоне долины, на вершине которого мы расположились, находилась мусульманская часть Попкиоя – пустая, словно после чумы. На противоположной стороне теснились болгарские «кишты», точно такие же, как и турецкие, с такими же низенькими черепичными крышами. Там слышался лай собак, виднелись люди, овцы, буйволы, или, как их прозвали наши солдаты, «буйлы». Направо шла долина, по которой мы только что шли, с ручейком посредине и с бесконечными кукурузными, ячменными и пшеничными полями по склонам. Налево, перпендикулярно к нашей долине, шла долина Лома, уходившая в обе стороны в туманную синеватую даль, из которой все слабее и слабее вырисовывались горы правого берега реки.
Против нас эти возвышенности были очень высоки. На них, в одном месте, изредка появлялся дым белым клубом и медленно-медленно несся, тая и расплываясь в воздухе; через полминуты раздавался глухой удар, вроде далекого раската грома. Это была рекогносцировка Моршанского полка.
Мы сыскали фонтан, набрали воды и вразброд вернулись на бивуак. Солдаты, немного отдохнув, уже оживились, чему, конечно, способствовали эти далекие выстрелы.
– Ишь, как садит!
– Что, братцы, наши это или турки? – задал кто-то вопрос.
Кто-то другой ответил, что моршанцы не взяли с собою пушек. И действительно, судя по положению и направлению дыма, это не могли быть выстрелы наших орудий.
Правее деревни, гораздо ближе, чем орудийные выстрелы, не на возвышенности, а под нею, в долине Лома, застучала ружейная стрельба, сначала редко, как будто бы рубили лес в несколько топоров, потом все чаще и чаще. Иногда звуки сливались в сплошную трескотню.
Я подошел к офицерам нашей роты. И. И. А., наш ротный командир, говорил другому офицеру, С., что, как ему только сейчас рассказывали, такие перепалки бывают здесь чуть не каждый день.
– Ну, кажется, дождались дела, – сказал С.
– Да дело-то это такое… разве это дело? Засели жители с черкесами в лесу, только беспокоят, а между тем шальные пули ведь и здесь летают. Не хотел бы я быть убитым таким образом.
– Отчего, И. И.? – спросил я.
– Да так, что это за сражение!
И. Н. хороший знаток военного ремесла и большой поклонник стратегии и тактики. Он не раз выражал мысль, что если быть убитым, то уж как следует, в правильном бою, а еще лучше – в генеральном сражении. Теперешняя перестрелка ему, видимо, не нравилась; он беспокойно пощипывал несколько одиноких волосков на своем подбородке и вдруг, добродушно и серьезно улыбнувшись, сказал:
– Пойдемте лучше, господа, чай пить: самовар готов.
Мы забрались в палатку и уселись чайничать. Стрельба мало-помалу замолкла, и остаток дня и ночь мы провели в совершенном спокойствии.
Впрочем, всю ночь мне снились белые клубы дыма и ружейная трескотня. Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Жара была такая же, как и вчера. Батальон Невского полка, прошедший мимо нас по направлению вчерашних орудийных выстрелов, шел, однако, довольно бодро; люди чувствовали близость боя.
Они, однако, скоро вернулись и, обогнув деревню, вероятно, пошли туда, где вчера была ружейная перестрелка. Сегодня она была слышна хуже – выстрелы удалились от нас. Загремели и пушки, сначала с нашей стороны, но скоро на высотах с того берега показались белые клубы дыма. Турки привезли артиллерию.
Я предложил С. пройти в деревню и, взойдя на какую-нибудь крышу, следить за боем; оттуда было лучше видно. Хотя минарет мечети был цел и, конечно, был выше всех крыш, но мечеть стояла низко, почти в долине; поэтому мы взобрались на первую попавшуюся галерейку черкесского дома, обращенную к месту битвы. Но хотя оно и расстилалось перед нами, ни войск, ни даже дыма ружейного огня не было видно: смотреть было решительно нечего. Мы слезли с галереи в маленький садик с абрикосовыми деревьями и белыми акациями: в нем все было в порядке, как будто бы еще вчера хозяева полили гряды с цветами. Тыквы вились своими цепкими стебельками по плетню, несколько стеблей кукурузы и высоких «крысьих хвостов» с красными колосьями разнообразили пестрый цветник. Мы вошли в дом. Стены были гладко и чисто вымазаны серою глиною. Все было цело; только очаг, сложенный из кусков черепицы, был проломлен. На полу валялось несколько листов из какой-то писаной мусульманской книги с заглавными украшениями, сделанными золотом и красками.
Больше рассматривать было нечего, и мы, выбравшись из лабиринта плетней, вышли на улицу. Денщик С-ва, красный как рак, бежал к нам:
– Ваше благородие, пожалуйте! Уж в ружье стали!
Мы добежали до батальона, и через две минуты я уже шагал в рядах с ружьем на плече.
Мы шли к месту вчерашней ружейной перестрелки. Солдаты крестились. Длинный ряд лазаретных фур остановился на дороге, чтобы дать нам пройти, и потянулся вслед за нами.
Ill
Мы обогнули деревню, спустились в минуту по мостику, перекинутому через ручей. Дорога шла слегка в гору по молоденькому лесу; деревья кизила, все красные от множества плодов, мешались с терном. Дорога была узкая, не более четырех человек могло идти по ней рядом; вправо от нее, в кустах, были выкопаны ложементы, приготовленные на случай нападения турок на Попкиой.
Мы приостановились и дали пройти какому-то полку. Это был Невский полк, целый день бывший в огне и возвращавшийся в лагерь, так как он расстрелял все патроны. Сколько помнится, убитых и раненых в этот день у невцев было мало. Они шли измученные, усталые, но весело и оживленно.
– Вы чего ж это, землячки, на попятный? – спрашивали мы невских солдатиков.
Некоторые молча открывали пустые сумки, другие отвечали, что патронов-де нет, что их сменили софийцы, которые пошли вперед, и турки подались.
– Эх, вы!
– Чего? «эх, вы»! Вот ты поди-ка сам, два дня не евши! Да и патронов нет. Солдат без патронов – трубка без табаку, – сказал невский солдат, набивая трубку, – поворачивай назад! Коли б они на нас лезли, а то так, они постреливают, и мы постреливаем – пустое дело!.. Дайте, землячок, прикурить.
Он «прикурил» и побежал догонять свою роту.
Рысью пронеслась по дороге батарея, за нею пошли и мы. Солнце садилось; все зарумянилось. Мы спустились в лощину, где тек маленький ручеек. Десяток гигантских черных тополей будто бы крышей закрывал место, где мы снова остановились. Лазаретные повозки расположились в несколько рядов. Доктора, фельдшера и санитары суетились и приготовлялись к перевязке. Пушечные выстрелы гремели невдалеке; удары становились все чаще и чаще.
Еще два батальона прошли мимо нас вперед; мы, вероятно, были оставлены для резерва. Нас отвели в сторону, люди составили ружья и улеглись на земле, покрытой мягкой душистой мятой.
Я лежал на спине и смотрел сквозь ветви на потемневшее небо. Гигантские, в шесть обхватов, стволы уходили вверх, ветвились, переплетались. Только кое-где выглядывала звездочка на черно-синем небе, и далеко-далеко казалась она, на дне какой-то бездны, и мирно посматривала оттуда. А выстрелы гремели и гремели. Вершины деревьев на мгновение озарялись красным светом и потом казались еще страшнее и мрачнее. Ружейного огня не было слышно. Вероятно, совершалось то, что на военном языке так скверно называется артиллерийскою подготовкою атаки.
Я лежал и почти дремал. Около меня солдаты тихо и сдержанно разговаривали. Теперь припоминаю странное обстоятельство, не могшее в то время обратить на себя мое внимание: никто ни словом не намекнул, не вспомнил, что у него есть другой мир, родина, родные, друзья. Как будто бы все забыли свою прежнюю жизнь. Говорили об этих грозных пушечных выстрелах, о том, зачем отошли невцы и отчего не подвезли патронов, о том, сколько может быть турок и кто дерется с нашей стороны: только ли три полка (Невский, Софийский и Волховский) или обе дивизии. «Да, может, братцы, еще и одиннадцатая подоспеет; начесали бы мы ему зубы». – «Ну, рассказывай, начесали! Кто его знает, может, он всю свою силу вывел. Нам бы его попридержать – и то ладно; больше с нас не спросят». – «И то правда; наступать, говорят, не велено». – «Кто тебе говорил?» – «Иванов, писарь из штаба; он земляк мне». – «Знает он, твой Иванов!» – с сомнением говорит солдатик.
Верхушки тополей побледнели; листья осеребрились и заблестели мягким отражением лунного света. Луна взошла, но нам ее не было видно, так как мы лежали на дне оврага. Все-таки стало немного светлее. На краю оврага показался верховой офицер; он отчаянно кричал: «Патронные ящики Софийского полка дава-а-ай!» Но ящики стояли по ту сторону оврага, и звук его голоса, несмотря на крайнее напряжение, не доходил до ездовых. Кто-то из нашего начальства крикнул: «Передать дальше!» И началось что-то вроде того, что музыканты называют фугою. Один кричал: «Патронные ящики дава-ай!» Другой начинал ту же фразу, когда первый выкрикивал «ящики», а третий – когда второй кончал «патронные». Как бы то ни было, дремавшие ездовые проснулись и, ударив по лошадям, вскачь перенеслись через овраг.