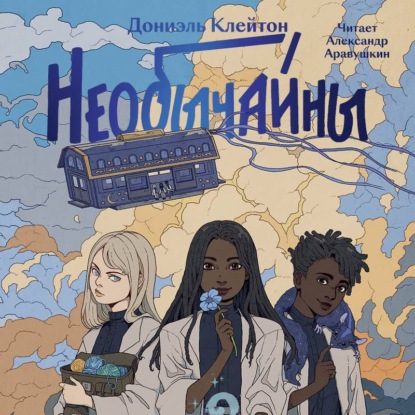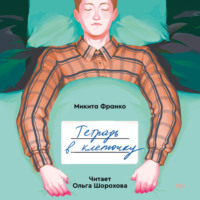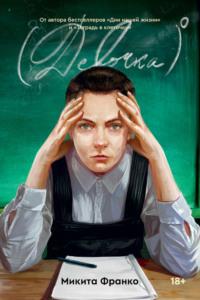Полная версия
Скоро конец света
– Давай, порадуй меня.
Я потянул за крышку тюбика, и он открылся с хлопающим звуком. Затем поднес помаду к губам.
Я ведь хотел, чтобы он стал моим папой.
Когда я закончил мазюкать по рту, Толик одобрительно кивнул:
– Вот, теперь ты красивая девочка.
Меня передернуло внутренне, но я напомнил себе, что должен ему понравиться.
– Теперь поцелуй папочку, – сказал Толик.
– Куда? – не понял я.
– Вот сюда, – и он указал на свои губы.
И тогда я вспомнил. Я вспомнил, что бородатые страшные мужчины похищают детей, чтобы целовать их в губы и трогать их тела. Я вспомнил, что психологи-волонтеры говорили, что о таком просят только плохие взрослые.
Толик – плохой взрослый.
Но что я мог сделать? Я был уже заперт с ним в одной квартире.
Я посмотрел в сторону открытого окна. Третий этаж.
Потом я снова посмотрел на Толика. Он ожидал моего поцелуя, и чем дольше я мешкался, тем строже становилось его лицо.
Я снова посмотрел в сторону открытого окна.
Я отбросил помаду, рванул к окну, Толик ринулся за мной, я прыгнул на подоконник, он попытался схватить меня, но запутался в шторах и оторвал их.
Что было со шторами дальше – не знаю. Я прыгнул.
* * *Я сломал ногу, и меня положили в больницу. Раньше я никогда не был в настоящей больнице, только в баторе, в лазарете. Со мной в палате был пацан семи лет, он почему-то лежал вместе с какой-то взрослой женщиной – у них были кровати, сдвинутые вместе. В течение дня их постоянно кто-то навещал.
Меня тоже часто навещали незнакомые люди, мужчина и две женщины в строгих костюмах, вопросы странные задавали про Толика и про мою воспиталку. Про Толика спрашивали – что он говорил, обижал ли меня, как и где трогал. Я отвечал, что он меня не трогал, и они задумчиво кивали. А про воспиталку спрашивали, отводила ли она меня раньше в гости к взрослым мужчинам. Я сказал, что не. Это правда.
Одна из женщин сказала мне, что я молодец. Не понял почему.
Пацан с соседней койки ныл, что ему скучно, а как по мне – нормально. Тихо, спокойно, еду в палату приносили, пока ешь – никто не отбирает ни хлеб, ни мясо. Когда взрослая женщина куда-то вышла, пацан тихо спросил у меня:
– А где твоя мама?
Я напрягся.
– У меня нет мамы.
– А где она?
– Нигде. Ее вообще нет.
– Как это – вообще нет? – без всякого стеснения расспрашивал он.
– Ну вот так. Я сирота. Живу в детском доме.
У мальчика рот округлился от удивления – он смешно замигал.
– То есть ты живешь совсем без никого?
– Ну не совсем, с другими детьми живу. И с воспиталками.
– Как в садике?
– Каком садике?
– В садике для детей, там тоже воспиталки, – пояснил мальчик. – А у меня есть мама, она тут со мной лежит… А как тебя зовут?
– Оливер.
Он прыснул:
– Похоже на «оливье»! А меня Сашка.
– Похоже на «какашку», – огрызнулся я в ответ.
Сашка не успел на меня обидеться, потому что в палату вернулась его мама. Мальчик сразу же вывалил на нее все, что успел узнать: что я Оливер, что я живу в детском доме, что я «совсем без никого» и меня даже никто не держит за ручку, когда делают уколы. Хотя мне пока их вообще не делали.
Но мама ему только устало ответила:
– Мальчика зовут не Оливер. Олег, да? – Она вопросительно посмотрела на меня. – Саша, наверное, не расслышал.
– Нет, Оливер! – нахмурился Сашка. – Есть такое имя, я в мультиках слышал!
– В России так детей не называют, – отвечала ему мама. – Особенно в детских домах.
Мне как будто стакан холодной воды за шиворот плеснули – захотелось съежиться от этих слов. Меня зовут Оливер, потому что я сам так захотел, потому что я как Оливер Твист. И я лучше знаю, какое имя мне подходит, – гораздо лучше, чем люди, которые сдали меня в детдом. Сашка был прав, почему его мать не верила?
Но сам я спорить с ней не стал. Я помнил, что взрослых нельзя отпугивать.
Ночью, когда засыпал, сквозь сон расслышал, как Саша шепчет маме:
– Давай заберем мальчика к себе?
У меня быстро-быстро забилось сердце, а сон мгновенно пропал. Я начал прислушиваться.
– Саш, ты че, куда нам? – отвечала ему мама. – У нас места мало, нам даже твой шкаф некуда поставить.
– Пусть спит рядом со мной.
– Нет, так нельзя. И вообще, скоро конец света, так что какая разница?
– Какой конец света? Когда? – испуганно зашептал Сашка.
– В декабре. Племя майя предсказало… – Она негромко рассмеялась. – Ладно, не смотри так, я шучу! Не будет конца света, но мы все равно не можем забрать Олега.
– Это Оливер…
– Хоть кого – не можем.
– Ну давай заберем! – почти заныл Сашка. – Я буду о нем заботиться!
Я подумал: как о щенке или котенке разговаривают. И перестал слушать – быстро заснул.
Они меня, конечно, не забрали. Мама Сашки все от меня прятала. Перед тем как пойти на рентген, они все убирали в тумбочку, а сумку женщина забирала с собой. Глупо, будто бы я из тумбочки постесняюсь стащить. Я бы и стащил, но у них там всякая ерунда: конфеты, машинки, солдатики и кукла Барби. На фиг оно мне надо?
Через две недели мне выдали костыли и выписали из больницы. Когда вернулся, узнал, что прежнюю воспиталку уволили и даже за что-то судят. Прикольно.
* * *Как правило, в баторе инвалидов не водилось – для них существуют специальные места. Но один все-таки обитал – Зайка. На самом деле этого пацана звали Борей, его мать работала у нас завхозом, а его держала в баторе как бы при себе, чтобы всегда был на глазах. Ну и называла его «мой зайка». За ним так и прижилось: Зайка и его мать – завхозяйка.
Завхозяйка любила красить волосы в кричащие цвета: красный, оранжевый, розовый, как будто она какая-то панк-рокерша, хотя ей уже было лет сорок. Еще у нее всегда были длинные висячие сережки почти до плеч.
Боря был скучнее. Он передвигался на инвалидном кресле и почти ничего не мог делать самостоятельно.
Благодаря тому что Боря был домашним ребенком, у него всегда можно было урвать всякие ништяки типа шоколадок, хорошего телефона, наушников и игровых приставок. Я старался с ним разговаривать пару раз в неделю, чтобы он хорошо ко мне относился и разрешал периодически поиграть во что-нибудь или послушать музыку.
Боря болел спинальной мышечной атрофией – это он мне сам рассказал. Еще сказал, что может из-за этого умереть от дыхательной недостаточности в любой момент.
– Значит, ты скоро умрешь, – заметил я, когда впервые выслушал этот рассказ.
– Ага, – кивнул Боря без особого сожаления. – Ты тоже.
– С чего это? – не понял я.
– У тебя ж СПИД.
– Я не чувствую себя умирающим.
– Я себя тоже.
Мы помолчали. Потом Боря, по-взрослому вздохнув, проговорил устало:
– Надеюсь, в декабре мы умрем все…
Я подумал, что в последнее время все только про какой-то конец света и говорят.
После того как я сломал ногу, мы с Борей оказались немного равны. У меня толком не получалось пользоваться костылями, и я мечтал об инвалидной коляске, а другие ребята смеялись над моей неуклюжестью и предлагали отжать коляску у Зайки.
Как бы то ни было, а я действительно начал больше времени проводить с Борей – он обычно торчал в библиотеке, я ковылял до нее на третий этаж, а потом мы вдвоем сидели в тишине и играли в «Супер Марио» на его приставке.
Завхозяйка заметила, что мы сблизилась, и была рада: покупала мне мороженое, помогала передвигаться на костылях, а пару раз даже прокатила по территории батора на инвалидной коляске, пересадив Борю на скамейку. Кататься мне жутко понравилось, я даже не понял: почему все люди не передвигаются на таких колясках? Можно было бы добираться в два раза быстрее куда угодно!
Но мои иллюзии разбились о необходимость вернуться в здание батора – в инвалидном кресле сделать это было невозможно. Не было пандуса. Так что завхозяйке сначала пришлось затащить по ступенькам коляску, а потом, тоже на своих руках, самого Борю, хотя он был почти с нее ростом.
– И так каждый раз? – удивленно спросил я.
– Каждый раз, где есть ступеньки, но нет пандуса, – пояснила завхозяйка. – Живем мы вообще на шестом этаже.
– А лифт?
Она вздохнула:
– В лифт не помещается коляска.
В какой-то момент я понял, что мы дообщались с Борей до того, что я начал испытывать к нему неравнодушие. Иногда мне даже хотелось плакать, когда я понимал, что он скоро умрет. И всякий раз злился, когда в очередной раз слушал рассказы завхозяйки о том, что в городе ничего не приспособлено для таких людей, как Боря.
Я спрашивал у завхозяйки, можно ли вылечить Борину болезнь, но она сказала, что такое еще не умеют лечить.
А потом завхозяйка предложила меня усыновить. Так и спросила: хочешь, мол, я тебя усыновлю. Мы тогда на скамейке мороженое ели, и я чуть не подавился от неожиданности.
Откашлявшись, я сказал:
– Хочу, конечно…
Завхозяйка мне нравилась. У нее были прикольные сережки, и она не обращала внимания на мою заразную кровь.
Но после этого разговора между мной и Борей что-то пошло не так. Он перестал давать мне играть в приставку, не делился шоколадками и всегда выруливал своей коляской в другую сторону, завидев меня в конце коридора. А мне на этих кривых костылях было невозможно угнаться за ним – оставалось только непонимающе смотреть вслед.
Завхозяйку я вообще больше не встречал. Казалось, что она сидит в своем кабинете и никогда оттуда не выходит, чтобы случайно не столкнуться со мной.
Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Как будто я кого-то тянул за язык и просил меня усыновлять! Вовсе даже не просил! Не очень-то и хотелось…
Прошел почти месяц, и мне уже даже разрешили передвигаться без костылей, а завхозяйка так и не вспомнила о своем намерении забрать меня в семью.
Лишь заново научившись бегать, я в конце концов смог догнать Борину коляску, когда он в очередной раз выруливал от меня, и строго спросил его:
– Почему ты больше не дружишь со мной?
– Потому что моя мама – это только моя мама, – бросил он мне в лицо.
Вот так вот. А я думал, что мы как братья.
* * *В батор приехали волонтеры-парикмахеры – обычно именно они нас стригли, всех одинаково: мальчиков обстригали так, что у всех головы становились по форме как футбольные мячи, а девочкам только подравнивали кончики волос, поэтому у всех девчонок были длинные волосы. У меня – голова-футбольный-мяч. Я ненавидел эти стрижки.
В тот день я улизнул от этой процедуры. Обошел парикмахершу, незаметно выдернул у нее ножницы из поясной сумки и ушел в девчачий туалет. В туалете для мальчиков почему-то не было зеркала, а мне оно как раз было нужно – я решил, что могу все сделать сам.
Поднял прядь волос и уже хотел чикнуть по ней ножницами, как рука дернулась – я услышал, что кто-то слил воду в одной из кабинок. Замер в напряжении – вдруг кто-то из воспиталок, нянек или администрации? Тогда наорут, прогонят и обзовут извращенцем.
Но из кабинки вышла незнакомая женщина с сумкой на плече. Она встала у соседнего умывальника, справа от меня, и начала мыть руки. Я скосил на нее взгляд, прочитал на застежке сумки: Dior. Где-то я это слышал.
У женщины были длинные ногти со светло-розовым лаком. Какие-то золотые сережки, колечки на пальцах – прямо все атрибуты нагламуренной курицы, но при этом на курицу она была не похожа. Это хорошо. Я ненавидел нагламуренных куриц – все старшие девчонки в баторе вели себя как они.
Закончив мыть руки, женщина посмотрела на меня, и тогда я увидел, что она не очень старая – ну ей лет тридцать пять, наверное. А то я сначала подумал, что она сорокалетняя старуха.
– Что ты делаешь? – спросила она, задержав взгляд на ножницах.
– Хотел подстричься, – честно сказал я.
– Почему сам?
– Мне не нравится, как стригут волонтеры.
– Почему? – нахмурилась женщина.
Я вздохнул:
– Потому что башка потом как футбольный мяч.
С полминуты она оглядывала меня с головы до ног, а потом с ног до головы, а потом опять с головы до ног. И внезапно предложила:
– Давай я тебя подстригу.
Я удивился:
– Вы умеете?
– Нет, – просто ответила она. – Но я хотя бы вижу тебя со стороны.
Она взяла у меня ножницы и встала рядом со мной с таким видом, будто всю жизнь только и делает, что стрижет детей в неподходящих для этого условиях.
– Наклонись над раковиной, помоем голову, как в настоящей парикмахерской.
– Нам никогда не мыли голову, – сказал я, но послушно наклонился.
– А в настоящих парикмахерских – моют, – ответила незнакомка и включила воду.
Я почувствовал поток прохладной воды и поежился. Женщина спросила, сделать ли воду теплее, а я зачем-то сказал: «Нет», но вода все равно стала теплой.
У нее были аккуратные мягкие руки, и на секунду мне показалось, что я дома и рядом со мной мама. Я никогда не был дома и никогда не видел маму, но это ощущение пришло ко мне, как будто я мог его вспомнить или узнать.
От неудобной позы немного затекала шея, но все равно хотелось, чтобы эти окружающие меня забота и безопасность длились вечно.
Наконец женщина сказала выпрямляться (сделав это, я почувствовал, как за шиворот побежали струйки воды, и снова поежился), достала из своей сумки расческу и причесала меня. Потом взялась за ножницы.
– Как тебя зовут? – спросила она. В этот момент в раковину упала первая срезанная прядь.
– Оливер. А вас?
– Анна.
Ножницы еще пару раз чикнули в тишине. Она не сказала, что у меня странное имя.
– Вы пришли за ребенком? – спросил я.
Анна, кажется, смутилась:
– Да, уже не первый год пытаемся добиться права усыновления.
– Почему так долго?
– Много всякой бумажной волокиты. Мы с мужем иностранцы – для нас все гораздо сложнее.
– А из какой вы страны?
– Из Америки.
Я выдохнул:
– Вау…
Что я знал про Америку? То, что видел в фильмах: куча аттракционов, еды, сладостей, у каждой семьи свой дом и собака. Не жизнь, а сказка!
– Я думал, в Америке говорят на ненашем, – сказал я.
Анна кивнула:
– Верно, на английском. Просто я родилась здесь, в России. Училась в Америке и замуж там вышла.
– А на кого вы там учились?
– Я учительница. Преподаю математику.
– Можно было бы и в России выучиться на учительницу, – заметил я.
Анна улыбнулась:
– Можно, конечно. Но мне хотелось в Америке.
Мы помолчали. Только ножницы в тишине: чик… чик…
Потом она спросила:
– А ты кем хочешь стать?
Я пожал плечами:
– Да это не имеет значения.
Она удивилась:
– Почему?
– Я умственно отсталый. У меня дебильность. Меня никуда не возьмут. Только на сантехника или маляра.
В зеркале я увидел, как у Анны округлились глаза.
– Ты не шутишь?!
– Нет, – спокойно ответил я.
– Это какая-то ошибка! Быть такого не может…
Я снова пожал плечами.
Анна так и стригла меня, с такими большими удивленными глазами – было забавно. Только почему-то она замолчала.
Лишь закончив, Анна сказала:
– Ну вот… Смотри… – говорила она тише, чем до этого.
Я покрутил головой перед зеркалом. Получилось очень даже хорошо – и коротко, и при этом я не стал похож на футбольный мяч.
– Здорово! – искренне обрадовался я.
Но Анна только грустно улыбнулась. Может, она подумала, что плохо меня подстригла? Для убедительности я еще раз повторил:
– Правда, очень хорошо.
Она убрала расческу, включила воду, смыла с раковины мои волосы. Я неловко стоял рядом.
Потом она посмотрела на себя в зеркало. И я тоже посмотрел в зеркало – на нее. Мы встретились взглядами, и Анна сказала:
– Когда, пронзительнее свиста, я слышу английский язык, – я вижу Оливера Твиста над кипами конторских книг.
Лицо у нее при этом осталось грустным каким-то. Хотя стихи хорошие – мне понравились.
– Чьи это? – спросил я.
– Мандельштам.
Почему-то, сказав это, она быстро-быстро засобиралась и ушла. Спохватившись, я решил выскочить на крыльцо, чтобы посмотреть ей вслед.
Но крыльцо было занято. Она на нем курила. Плакала и курила. Вокруг шел дождь. Когда закончила курить, пошла прямо так – без плаща и зонтика. Хотя зонтик, мне кажется, у нее был.
* * *На следующий день Анна снова приехала в батор. Она сразу пошла к администрации, а через время вызвали меня – сказали, что она хочет со мной пообщаться. Я пожал плечами: пусть пообщается, если хочет. Я тогда еще не понимал зачем.
Мы прогуливались по территории батора, и она задавала вопросы, по которым я начал догадываться, что она, наверное, подумывает меня забрать. Все как обычно: чем занимаешься, что любишь…
– Я люблю играть в «Змейку», – ответил я.
– А это что?
– Игра на телефоне, – и я вытащил свою старую «Нокию» из кармана.
Анна немного удивилась:
– У тебя такой телефон?..
– Какой «такой»?
– Такой… Старый.
Я хмыкнул:
– Что в баторе дают, тем и пользуюсь.
Анна нахмурилась:
– В баторе? Ты так называешь детский дом?
– Все так называют. От слова «инкубатор».
Мы прошли целый круг в молчании. Анна думала о чем-то своем, а я размышлял, стоит ли мне пытаться самому подбирать темы для разговора, или это она должна делать как моя потенциальная мама.
Пока я думал, она спросила первой:
– Почему ты называешь себя Оливером?
– Потому что меня так зовут. В честь Оливера Твиста.
– Ты читал?
– Да. У нас в библиотеке есть.
– И тебе кажется, что ты похож на Оливера?
– Да, – кивнул я. – Он все время скитался один. Я тоже один.
Она посмотрела на меня с каким-то неясным восторгом. Но мигом ее взгляд потух и сменился другим – жестким, почти пустым. Я знал, что это значит.
Так все смотрели. Светлана Сидоровна так смотрела, когда я с ходу решал задачи по математике. А воспиталки – когда подсказывал им ответы в кроссвордах. Сначала взрослые понимали, что я умный, а потом вспоминали, что дебил.
Когда наша прогулка подошла к концу, мы остановились у крыльца, Анна вытащила из сумки яркую упаковку каких-то длинных разноцветных трубочек. Протянула мне:
– Держи.
Я взял презент в руки.
– Это что?
– Что-то типа тянущихся конфет.
– Это съедобно? – удивился я.
Анна засмеялась:
– Конечно!
Впервые за весь день она улыбнулась.
Мы попрощались. Я дождался, пока она скроется за калиткой, и только потом поднялся в здание батора.
Едва шагнул за порог, как упаковку с конфетами выбили у меня из рук, а самого повалили и придавили ногой к полу. Это были Баха с Цапой и два их прихвостня. Они потрясли конфетами у меня над головой, противно спрашивая друг у друга:
– Ну, что тут у нас?!
– Конфе-е-е-еты!
– Конфеты от сисястой американки!
У меня не получалось задрать голову, чтобы посмотреть на них, но по хлопающему звуку я понял, что они открыли упаковку и начали делить конфеты между собой.
Ботинок, прижимавший меня к полу, сместился и легонько, для привлечения внимания, пнул в ребра.
– Э, слыш, – пробасил обладатель ботинка. – Все, что тебе эта телка будет приносить, – отдаешь нам, ясно?
– Ясно… – выдавил я.
Они отпустили меня и пошли дальше по коридору, обсуждая Анну: что-то про сиськи, задницу и что бы они с ней сделали, будь у них такая возможность.
Я поднялся и, посмотрев по сторонам, отряхнулся. Нашел на полу случайно выпавшую конфету – подобрал и съел. За моими действиями лениво следил из будки полупьяный баторский охранник.
* * *В следующую встречу, которая состоялась через два дня, Анна подарила мне телефон без кнопок. Он был раза в три больше, чем моя «Нокиа», едва влезал в карман и неудобно лежал в руке. В баторе такие телефоны были только у влиятельных старших, хотя спонсоры и волонтеры часто дарили технику. Они приезжали на машинах с какими-нибудь надписями типа «Помоги ребенку» или «Сделай счастливым малыша», всех гладили по головам и раздавали дорогущие вещи. А когда их машины отъезжали от здания батора, старшаки отбирали у нас новую технику, потому что большинство из нас торчали им денег. За что? Ни за что – долги они просто выдумывали. Могли предложить конфету за обедом, а потом оказывалось, что ты должен за нее сто рублей. Один раз я так за сто рублей продал четвертый айфон.
И вот Анна стояла передо мной в белом сарафане с желтыми подсолнухами, похожая на дамочку из американских фильмов про счастливую жизнь, показывала этот огромный телефон и смотрела на меня с немым, но очень радостным вопросом: мол, ну как тебе?!
– Спасибо, – сдержанно ответил я, уже представляя, как его заберут.
– Тебе не нравится?
Я услышал нотки разочарования, поэтому бодро ответил:
– Конечно, нравится!
Мне не хотелось ее обидеть. Я боялся, что она может не захотеть меня усыновлять, хотя она еще ни разу этого и не обещала.
В тот раз она приехала ненадолго. Передала подарок, спросила про дела, потрепала по волосам и пообещала, что завтра снова приедет. Я хотел попросить не привозить с собой подарков, но постеснялся.
После ее визита меня вызвала к себе воспиталка. Это помогло пройти через весь коридор мимо старшаков нетронутым – им оставалось только провожать меня недобрыми взглядами.
А воспиталка зачем-то принялась расспрашивать про Анну: что она мне говорила, что дарила, чего пообещала…
– Да ничего не обещала, – пожал я плечами.
– А подарки дарила?
– Дарила.
– Ты думаешь, она хочет взять тебя к себе? – криво усмехнулась воспиталка.
– Я не знаю.
– Не обольщайся. Она просто играет с тобой, как с куклой, пока ей не надоест… Что ты на меня так смотришь? Я говорю тебе как есть, чтобы потом это не стало для тебя трагедией. Все эти усыновители из Америки такие.
Я удивился:
– А почему они такие?
– Какая страна – такие и граждане.
– А какая страна?
– Подлая и жестокая. Если хочешь знать, таких, как ты, там вообще нет. Их усыпляют при рождении.
– Каких «таких»? – не понял я.
– Ну дебилов, умственно отсталых, инвалидов. Это в России вас учат, кормят, одевают за счет государства. А в Америке – нет. Кто будет за это платить? А за твои лекарства? Государство там ни копейки не дает своему народу. Понятно?
– Понятно, – буркнул я.
– Ну все, иди. И не мечтай, что она тебя заберет. Для твоего же блага предупреждаю!
Я не успел обдумать то, что она мне сообщила. Потому что едва снова вышел в коридор, как на меня накинулись со всех сторон, человек пять – я даже не успел разглядеть их лица, но понимал, что это шестерки Бахи и Цапы. Они принялись выдергивать из моего кармана мобильник. Я не очень-то и сопротивлялся, потому что знал, чего ждать от всех этих визитов с подарками. Но, отобрав телефон, они не угомонились.
– Что, тупая американка хочет тебя к себе взять?! – выкрикнул мне в лицо один из них.
Толкнув меня в плечо (каждый по очереди), они в конце концов оставили меня в покое. А я подумал: жаль, что я не родился в Америке. Лучше бы меня усыпили.
* * *В игровой стоял телевизор, похожий на старый пузатый ящик. Если бы я не бывал в домах других людей, где телевизоры не толще моего указательного пальца и всегда висят на стене, я бы и не догадывался, что у нас какой-то старый допотопный телик.
Когда было свободное время, нам разрешали его смотреть, но ребята просили включать всякую фигню типа каналов с клипами, где играла тупая приедающаяся музыка.
В тот день музыкальный канал не работал, поэтому нам включили другой – с фильмами. Всем сразу же стало скучно, пацаны пошли воевать за единственный компьютер, а девчонки – торчать на улицу. Смотреть фильм остался только я.
На самом деле я сначала тоже хотел пойти на улицу, но заметил на экране человека, похожего на некоторых баторских детей: он вел себя то заторможенно, то суетливо, напоминал пятилетнего, хотя выглядел на сорок, и даже казался глупым. Находился он в специальном месте, где у него была своя комната, а весь персонал общался с ним очень вежливо.
Я оглянулся на воспиталку – она тоже сидела в игровой и флегматично читала книгу.
– Он дебил? – спросил я у нее.
Она подняла ленивый взгляд на экран телевизора, затем медленно опустила его обратно в книгу и кивнула.
– А где он находится?
– В специальной лечебнице для дебилов.
– И он там всю жизнь? С рождения?
Она зевнула:
– Да, наверное…
Нахмурившись, я снова посмотрел на экран. Мужчина, который вел себя странно, забрался в кабриолет и о чем-то спорил с молодым парнем.
– А что это за страна? – снова повернулся я к воспиталке.
Она опять лениво глянула на телевизор.
– Америка вроде…
– Но там же дебилов усыпляют при рождении, – напомнил я.
– Ну, видимо, не всех… Но большинство.
– А зачем им специальные места для них, если большинство усыпляют?