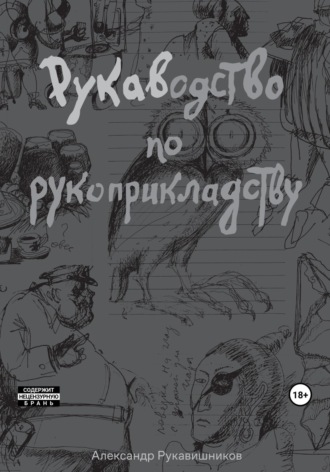
Полная версия
РУКАВодство по рукоприкладству
Дусик, так все звали Давида Народицкого, был скульптором, который умел жить. Красивый, внешне он напоминал актера Михаила Козакова, плохиша из старого фильма про Ихтиандра, но с волосами. Всегда загорелый, с хорошей фигурой, в белых костюмах и шейных платках, с новой красивой натурщицей под ручку, он шел по переулку либо обедать в Дом архитектора, который располагался недалеко от нас, либо возвращался, уже отобедав. «О, Александр, какая встреча! – восклицал он, невзирая на мой возраст. – Зайди, старик, покажу тебе свои новые работы». И когда я заходил, видел на его аккуратной территории (у товарищей были проведены границы) на хороших деревянных станках несколько очень качественно сделанных мраморных ню метра по два. Охапка сирени в ведре на полу. Это вызывало уважение, и, наверное, было смешно со стороны наблюдать, как какой-то шплинт в школьной форме хвалит белоснежного, с белоснежной идеально подстриженной бородкой плейбоя.
Миша Альтшуллер внешне был самым серьезным из них. Творческих работ его я не запомнил. «Давид, мой руки после сортира, у нас общая глина!» – с намеренно подчеркнутым одесским акцентом кричал дядя Миша дяде Дусику. Старшие говорили, что, когда ему исполнилось сорок, Альтшуллер вдруг начал хвататься за сердце и замирать, прислушиваясь. Он очень боялся за свое здоровье и прожил дольше своих партнеров, уехав к детям в США.
У Исаака была дочка. Дина вызывала неоднозначные пересуды в скульптурной среде Москвы. Имя это так часто упоминалось, что я, не зная Дину лично, уже ее недолюбливал. Познакомились мы в подвальной мастерской на Новослободской у Юрия Тура. Скульптор Тур, альпинист, мастер спорта международного класса, преподавал в Строгановке рисунок и подрабатывал тем, что готовил абитуриентов для поступления в художественные вузы. Уникален Юрий Аврамович был тем, что учил скульптурному рисунку, конструктивному, а не иллюзорному. Таких мастеров я в жизни больше не встречал. Светловолосый и светлоглазый, с ликом царя Агамемнона, смешанным с бурделевским «красноречием», всегда в черном костюме и белоснежной рубашке с золотыми запонками с агатом, слегка выпивший, он подсаживался к ученику, брал у того карандаш и ластик и на свободном месте блестяще рисовал фрагмент этого рисунка. Таинство усиливалось рассуждениями и комментариями, которые произносились всегда тихим, подчеркнуто ласковым голосом. Одно удовольствие было учиться у такого мастера: все сразу становилось понятным и пример того, как это делается, был перед глазами. Мой будущий друг Юра Орехов и моя будущая настоящая первая любовь Дина Бродская, жившие в соседних домах на улице Усиевича, готовились у него поступать в Строгановку, а я просто учился, так как мне поступать было рано – в ШРМ была одиннадцатилетка. Динка поражала библейской красотой и отвязностью одежды. Я, всю дорогу с разбитой после тренировок у Сегаловича рожей и скорее напоминающий своим видом урлу (теперь это гопники), понимал, что мне там ловить нечего. Прошла московская слякотная осень с дождями, мокрым снегом и заморозками, началась суровая зима 1966 года. Стемнело рано, еще по дороге к Туру. Отрисовав с Диной и Юрой обычные четыре часа, мы прихватили натурщицу, дошли вместе до метро «Новослободская», попрощались и поехали в разные стороны. Попав с мороза в уют квартиры и не успев переодеться, я услышал телефонный звонок. Я подошел, трубка говорила Динкиным голосом: «Привет, доехал? Что будешь делать? Может, пойдем погуляем?» Бабушка и мама, которые были в это время дома, подумали, что я сошел с ума. Завертевшись на месте, попросив у них денег и пробкой вылетев из дома, я бежал опять к метро. Шестнадцатилетними мы грохнулись с ней в еще незнакомый нам океан любви, с загадочными чувствами и огоньками на горизонте, глубокими переживаниями и надеждами. Спасибо тебе, Динка, ты удивительная, просто чума. Молниеносно изменилось внутреннее отношение к себе. Если такая красивая и неординарная девушка у тебя, то ты хо-хо. Московско-судакская любовь (лето мы всей шоблой проводили в Крыму), изобилующая всякого рода «подвигами», длилась долго – лет пять. Всеобщие ожидания узаконивания наших отношений меня раздражали. Из-за какой-то вредности я тянул резину, не хотелось делать того, что очевидно было для всех окружающих. А Дине все было по барабану. На море она дни напролет проводила под водой, плавая с распущенными волосами. Зимой, питаясь одной петрушкой и кипятком, лепила портреты наших друзей и подруг (портрет Никитки Мамлина был очень хорош) и собирала коллекцию немыслимых по сочетанию и экстравагантности шмоток.
В любом обществе, куда бы мы с ней ни попадали, она была абсолютной «собакой», как говорят актеры, то есть по органичности, естественности и внешности не имела равных. Дурацкие короткие присказки, поговорки, вялые ответы на все вопросы невпопад. Задававший вопрос всегда чувствовал себя идиотом.
СолнцеИнтеллектуалы довольно часто пересекались с хиппующим народом Юрия Солнышко и с ним самим. Юра был добрым парнем с некрасивым, блинообразным лицом землистого цвета и длинными, всегда нечистыми на вид, безжизненными темно-русыми волосами. Встретить его одного, без свиты, было сложно, но меня он как-то окликнул у старого здания универа. Лет через десять я узнал, что это место и называлось легендарной Плешкой, где собирались хиппи. Юра предложил пообедать. Я согласился: во‑первых, я любил и люблю поесть, а во-вторых, мне интересно было понять феномен его известности и величия. Мы пришли в какую-то знакомую ему столовку неподалеку. Там уже обедали несколько хиппи. Наше появление не вызвало у них никакой особой реакции. Мы поприветствовали их и сели за соседний пластиковый столик. Нужно понимать, что такой антисанитарии, которая повсеместно царила тогда в подобных точках общепита, сейчас вы не найдете нигде. Женщины плотного телосложения в грязных халатах и мужских с узорами синтетических носках, надетых поверх коричневых чулок, облезлый маникюр с траурной каймой – этот образ дополнялся немыслимыми прическами в стиле Макса Эрнста и «газовыми» косыночками. Про тряпки, которыми вытирались столы, лучше не вспоминать. Про запахи – тем паче. Утрированно хамская лексика была спецификой подобных заведений советских времен. Столовая, куда мы попали, была именно таким заведением. Я, чтобы не обижать Солнышко, заказал что-то простенькое типа булочки с кофе. Он героически ел много и с аппетитом, вызывая у меня жалость. Мне почему-то часто бывает нестерпимо жалко мужчин, когда они едят. Расплатившись, Юра позвал меня с собой, и мы покатились по Москве. Парк культуры имени Горького, где работали хиппи на аттракционе «американские горки», а рядом ребята продавали мороженое. Поехали туда и, скупив все, забрали их с собой. Потом была какая-то стеклянная пивная в Сокольниках с названием типа «Сирень» с мокрыми сушками, обсыпанными крупной солью, и разбавленным пивом. Я, помню, встретил там одного из наших главных «трезвенников-интеллектуалов» Сергея Хмелевского. Он пил пиво со своим соседом Федей, гитара стояла между ними. Сергей не был удивлен, увидев меня с хиппи, поехать с нами они отказались по причине нетрезвости.
Хочу несколько слов сказать о Серёге. Это был невысокий светловолосый ладный парень, объективно красивый. У него было какое-то музыкальное образование. Его кумиром был Леннон. С лидерами известнейших ныне московских рок-групп он даже не здоровался, хоть они заискивали перед ним при встрече. Помню, Хмелевский как-то, когда мы были вместе, снисходительно улыбался самому известному из них, но руки не подал, хотя тот свою тянул. Мне даже стало жаль «звезду». На мой вопрос: «Чего ты так с ним?» он ответил: «Пусть учится петь и не п....т много». Он писал красивейшую музыку на слова ирландских средневековых поэтов и так пел, что любая импровизированная аудитория не могла остаться равнодушной. Еще ему почему-то нравился Петр Лещенко, а «Чубчик» он пел так, что никто не мог сдержать слез, не исключая вашего покорного слуги. Позже он закончил Институт восточных языков. Долго работал в Северной Корее. Спивался потихоньку, появляясь все реже и реже, и погиб в прямом смысле слова. Очень жаль, что он родился не там, где был бы востребован. Несомненно, Сережа был самым талантливым из нас.
Но вернемся в тот летний московский день. В общем, где бы мы ни появились, к нам присоединялся свежий хиппующий народ, и странно выглядящая шобла постепенно росла. Среди них были разные занятные персонажи, мальчишки и девчонки. Выделялся своей заразительной веселостью Саша Костенко, с которым мы раньше встречались, а в тот день сблизились ещё сильнее. Завершилось все это для меня уже практически ночью. Сначала мы всей толпой на метро поперлись выручать кого-то, кого порезали, потом, не поймав обидчиков, приехали в какую-то большую темную квартиру на улице Жолтовского. Большая часть шоблы осталась внизу во дворе пить портвейн. Юрка затащил меня наверх, желая с кем-то познакомить. Громко звучали The Doors. На полу вяло шевелились слабо одетые юноши и девушки, то ли играющие в наркоманов, то ли являющиеся ими. Я очень устал от этой бестолковщины и свалил по-английски, благо жили мы тогда рядом, на Большой Садовой, 302-бис.
Потом мы с Солнышко мимолетно виделись несколько раз на каких-то сейшенах, неизменно начинавшихся в те времена почему-то композицией The House of the Rising Sun. Привет – привет. Потом он как-то звонил и обращался ко мне с просьбой отмазать своих от кого-то, принимая меня бог знает за кого. Товарищи мои попросили хулиганов не трогать «детей цветов». Значительно позже, году в 2013–2015-м когда все уже забыли и о хиппи, и об их лидере, по Москве прошел слух, что Юра Солнышко умер. Мне почему-то сразу вспомнилось, как он ел тогда в той столовой. Жаль, что так рано закончилась целая эпоха – кусок нашей московской молодой жизни. Солнце зашло.
НабоковМы, наша семья, смогли прочитать Набокова, лишь когда появился самиздат. Спасибо, сосед на Маяковке по кличке Барабан приносил такую литературу постоянно. Когда начались проблемы у моего учителя по восточным единоборствам Алексея Штурмина (о нем напишу позже), меня предупредили, что могут поинтересоваться и книгами его друзей. Мы долго отбирали, что можно хранить дома.
Позже мой друг Виталий Вавилин помог связаться с мэром Монтрё, где в отеле «Гранд Палас» последние пятнадцать лет жил Набоков. Виталий познакомил меня с сыном Владимира Владимировича – Дмитрием, ныне покойным. И позже перед отелем мы с Филиппом поставили памятник. Дмитрий оказался неординарным и очень принципиальным человеком. Когда мы дорабатывали статую в воске для литья, он уже плохо себя чувствовал, но живо интересовался ходом работы. Сделав модель, мы отправили ему фото в разных ракурсах. Он позвонил и деликатно, осторожно, чтобы не обидеть, сказал, мол, вряд ли его отец мог носить никербокеры в таком возрасте. И предложил: может быть, лучше обычные брюки?
Концепция показать великого, творческого человека, одетого респектабельно сверху, но вольно снизу (брюки до колена и альпийские ботинки), разваливалась. Однако через несколько дней Дмитрий Владимирович перезвонил и сказал, что нашел цитату отца, где тот пишет, что если бы он сейчас поехал в Россию, то надел бы никербокеры6 и взял бы с собой сачок.
Есть знаменитая фотография, где Набоков смотрит в объектив поверх пенсне. Она и была взята за основу. Пенсне, конечно, постоянно отрывают от скульптуры. Саркастично настроенный менеджер отеля сказал, что русские туристы очень любят своего писателя, а потому берут пенсне на память. Я спросил, почему он думает, что это именно русские. Он пожал плечами и хихикнул: «Возможно это швейцарцы».
СлучайСуриковский институт семидесятых годов был очень необычным учебным заведением. Едва ты входил в вестибюль, тебя сшибал с ног запах щей из столовой, которая располагалась в подвале. Точнее, вестибюля вообще не было. Войдя, ты упирался в лестницу, ведущую вверх и вниз, в столовую. Там слонялись странные типы в грязной одежде. Иногда мелькала профессура. Модный и популярнейший Таир, любимец молодежи; статный герой Курилко-Рюмин, потерявший руку на войне; скромный и незаметный Алпатов, читавший нам историю русского искусства. Алпатов, которому было, наверное, лет шестьдесят, казался нам, студентам, очень старым. Он тихо говорил, и у него постоянно слезились глаза. Было ощущение, что он оплакивает уничтоженное и все еще уничтожаемое темными и безвкусными дурачками великое искусство. В аудитории на его лекциях было темно: показывались слайды. Только его некрасивое одухотворенное лицо, выхваченное светом настольной лампы, выражало страдание. Михаил Владимирович не то чтобы любил русское искусство, он жил им и в нем, дышал им, и то, что творилось с культурой, являлось для него не только трагедией вселенского масштаба, но и личной трагедией. Таких людей было немного. А когда, например, появлялся сам ректор Пал Иваныч Бондаренко в идеально пошитых костюмах, эдакий Лино Вентура, все вокруг замирало. Спустя много лет, когда я работал над образом Пилата Понтийского, передо мной стоял именно его образ. Поговаривали, что он во время войны командовал большим партизанским отрядом и отличался бескомпромиссной жестокостью к врагу и к своим поскользнувшимся бойцам.
На втором курсе с нами учился Павел Венглинский, он лет на пять старше нас, немного угрюмый, замкнутый. Грубо напоминал актера Урбанского. Про его талант ничего сказать не могу, не запомнилось.
Как-то в актовом зале проходило общее собрание института, что случалось нечасто. В президиуме на сцене сидело человек десять великих: Бабурин, Кибальников, Салахов, Кербель, Бондаренко, Курилко-Рюмин и другие. Когда официальные выступления закончились и было предложено выступить кому-нибудь из студентов, Паша в коричневатой ковбойке, слегка испачканной глиной, спокойно поднялся на сцену. Помолчал, дождавшись тишины, и внятно сказал, обращаясь к президиуму: «Суки, твари, жируете тут, расселись, а мы мучаемся…» – и все в этом роде. Воцарилась тишина, которая продолжалась, как мне показалось, довольно долго. Все оцепенели. А он говорил все громче, переходя на крик, и собирался уже накинуться на кого-то из членов президиума. Но тут его скрутили старшекурсники, сидевшие впереди. Собрание сразу закончилось, что нас всех очень обрадовало, и мы с Переяславцем пошли за пивом. Потом, помню, отправились в Андроников монастырь и жалели Пашку, решив, что его теперь, конечно, выгонят. Пиво было холодное, колбаса вкусная, хлеб свежий, еще теплый.
Придя на следующее утро в институт, я зашел в каптерку за ключом от нашей мастерской. Ключа не было – кто-то приперся еще раньше. «Интересно, кто такой прилежный», – думал я, идя по коридору. Рванув грязную дверь с юношеским задором и приготовившись, как обычно, шутить, я чуть не врезался в чьи-то ноги. Паша висел прямо у двери. Ледяной холод пополз вверх по позвоночнику. Я тихо, придерживая, прикрыл грязную дверь на пружине и как лунатик пошел обратно по коридору. Для Сурка подобная смерть не была чем-то из ряда вон выходящим. Неуравновешенные молодые гении выбрасывались из окон, травились и вешались. Один студент из Средней Азии, протестуя, даже отрезал себе член, диплом защищал уже без него. Муки творчества свойственны художникам. Но смерть нашего Паши сильно подействовала на группу. Слава богу, те времена ушли. Теперь всем всё до фонаря. Комсомолу пятидесятых всё было по плечу, а современной молодежи все по х… Наверное, так все-таки лучше.
ТанцыЧерез мою жену Олю мне вдруг открылся неведомый и таинственный мир танца, ансамблей и вообще балета. Мамины друзья шутили: «Алка, это ты наколдовала своими балетными композициями и сына заразила». В этой шутке была доля правды. Балетные с детства вызывали любовь и уважение. Помню, балерины, приходившие позировать маме, были или казались мне, подростку, такими совершенными созданиями, что меня поражало, что они так же, как мы, говорят, пьют чай, даже кое-что едят, смеются. Правда, весь разговор крутился вокруг сцены. А тут ансамбль великого Игоря Моисеева! Этот легендарный коллектив – целый драгоценный пласт, самобытный и уникальный в мировом масштабе. Организм ансамбля очень непрост: там работают свои законы. Жизнь молодой танцовщицы эмоционально очень напряженная, со своими взлетами и падениями, «внутренними» анекдотами, которые идут нон-стоп. Скажу одно: когда бы ты ни попал на концерт и какое бы у тебя ни было настроение, праздник неизбежно захватит тебя и понесет «вдоль Млечного Пути». А после концерта полет еще долго с тобой. А добиться, чтобы так воздействовало какое-либо искусство, ох как непросто. Поэтому я так ценил наши нечастые встречи с Игорем Александровичем и Ириной Алексеевной. Иру я, правда, знал гораздо раньше, потому что она мама Ленки Коневой. Которая, кстати, с мужем Юрой, моим товарищем и известным в Москве музыкантом, чаще всего и организовывала эти встречи. Сколько интересного таила память маэстро, с кем только он не встречался. Я расспрашивал его о Пикассо, Максе Эрнсте, Манцу. Разговаривая с Игорем Александровичем, понимаешь манеру общения русской интеллигенции (он любил называть себя столбовым дворянином) – все суждения как бы в рамках сдержанности, не доведенные до выплеска эмоций. И только о мировых шедеврах с достойным, но негромким пафосом. На людях он вел себя как Набоков, даже не пытаясь кого-либо узнавать. Его занимал рисунок танца, он всегда творил. Понимая это, я не лез к нему при встрече. Пока Ира не скажет ему: «Лапка! – Саша Рукавишников». Тогда, кротко улыбнувшись, он тянул две руки: «А! Ну как же. Над чем сейчас трудитесь?» Помню его юбилейный концерт, помню гримасу удивления, которой исказилось его лицо, когда в поздравительном обращении со сцены Ельцин назвал его Игорем Моисеевичем. Владимир Васильев, в шутку поздравляя его вьетнамским танцем, чуть-чуть запутался в горизонтальных шестах. Девяностопятилетний Игорь с улыбкой подошел к шестам и станцевал фрагмент правильно! Когда Моисеева не стало, мы с Сергеем Шаровым сделали надгробие на Новодевичьем. Я ощущал ответственность, мы не имели права сделать обычно. Я горжусь этой работой.
Оля была совсем ребенком, когда мы встретились, но какая-то воспитанная ею самой ответственность за поступки, сдержанность, что ли, какая-то взрослость, отличающая ее от других девочек, сразу была видна. Например, она всегда вытаскивала деньги, пытаясь расплатиться за что-нибудь – сама. По некоторым поведенческим нюансам прочитывалось что-то необычное, непривычное для меня. Мне она казалась очень красивой – худую статную славянскую фигуру венчала небольшая, совершенная по форме голова с красивым необычным лицом. Кстати, ее трудно слепить, мы с Иулианом пробовали – получается она и не она. Я делал много набросков с нее, некоторые получились. Ее тогда только начали брать в первые поездки, и в иностранных шмотках с ней даже мне, «непобедимому мастеру», трудно было пройти по улице. Сочетание красоты внешней с красотой внутренней было необычно.
Оля сразу познакомила меня со своими подругами и друзьями. Лену Коневу, проходившую у нас в компании под кличкой Внучка маршала, тремя годами раньше привела ко мне Света Микоян – сестра моего друга Вовы. Они жили на улице Алексея Толстого в новом шикарном доме, занимая целый этаж, с напоминавшим мне молодого Пастернака папой и легендарным дедом Анастасом Микояном. Когда я случайно натыкался на него в квартире, хотелось провалиться сквозь землю – такая значительность исходила от него. Мне сразу вспоминались рассказы папы о его встрече с Иосифом Виссарионовичем. Впрочем, нам, малолетним кретинам, пафосность обстановки этой квартиры не мешала, когда там никого не было, устраивать веселые попойки с беганьем голыми по длинным круговым балконам с криками «Ай кен гет ноу сатисфэкшн», после чего Серго Анастасович говорил Вовке: «Вы бы хоть в трусах бегали и пели бы что-нибудь из Beatles, а то охранники жалуются». Возвращаясь к моисеевцам, вспоминаю веселое, бесшабашное братство, которое представляли ансамблевские ребята и девчонки, и которое мне очень импонировало. Из мужиков своим талантом выделялся Боря Санкин, его цыганское происхождение плюс интеллект и работоспособность, помноженные на природные данные, творили чудо. В танце аргентинских пастухов гаучо все трое из кожи лезут, стараются, а при этом двоих как будто нет, один Санкин. Еще я очень полюбил Колю Огрызкова по кличке Боинг, царство ему небесное. Такую внутреннюю душевность и одержимость любимым делом трудно встретить. Он всегда, в какой бы стране ни оказался, стремился к новым знаниям и сразу, как Иван-дурак, брал быка за рога, учась танцевать в сомнительных портовых притонах, частных школах, городских праздниках. Глядя слегка в разные стороны и вверх, с какой-то внутренней улыбкой, он, находясь рядом с тобой, вместе с тем пребывал в вечности. Ему бы больше подошла кличка Зачарованный странник. В серию о великих я сделал его портрет «Друг мой Колька», украв название у Александра Митты. Первый экземпляр находится в Третьяковской галерее.
С Олей жизнь наша была нескончаемым праздником, с интереснейшими встречами, друзьями и приключениями, описать которые почти невозможно. Двери Маяковки не закрывались ни днем ни ночью, вся Москва считала нормой завалиться к Рукавишниковым. Годам к тридцати пяти меня это начало тяготить. Я наделал ключей от банно-тренировочного комплекса и раздал их друзьям, что оказалось ошибкой.
ТуманНеотъемлемой частью моего счастливого детства были мраморщики. Правильно говорить «резчики по камню», но это профи-сленг. Как правило, то были безмятежные мужики с понятным мужским делом и каменными руками. Иулиану они резали бюсты Ленина – для заработка. И уникальные скульптуры – для искусства. Точнее, оболванивали до оговоренной с ним степени. А дальше он работал сам. Пили эти ребята сильнее, чем скульпторы, поэтому довольно быстро сменялись. Мне повезло: я учился у резчика по камню Виталия Суховерхова, частенько ездил к нему на дачу на электричке. Напротив писательского Переделкино располагалась легендарная Баковка. Именно из нее на рассвете звонил в Кремль командарм Будённый, крича в трубку: «Иосиф! Измена! Меня какие-то пытаются арестовать! Держу оборону». И поливал товарищей, приехавших за ним поутру из «Максимки», предусмотрительно установленного на чердаке. Мне однажды повезло увидеть его на нарядном гнедом жеребце с белыми чулками в компании нескольких всадников. Местные говорили, что он долго еще регулярно ездил верхом по окрестностям. До глубокой старости. Какой молодец! Так вот, дядя Виталий был мастером от бога и так чувствовал камень, что казалось, не режет мрамор, а расколачивает черновую форму, и отлетающие искрящиеся на солнце, куски благородного камня высвобождают уже заложенное внутри изображение. Жена Виталия тетя Валя беспрерывно звала меня то обедать, то попить молочка или холодного кваску. И укоризненно махала на него: что, мол, привязался к Сашеньке со своими железками и молотками?
А сам маэстро работал так. По всему участку – под яблонями и сливами – стояли станки, штук восемь–десять. На каждом высилась начатая скульптура из камня, рядом – гипсовая модель. И инструменты, конечно. Когда античный красавец дядя Виталий, обнаженный по пояс, в пижамных штанах, обрезанных валенках, с папиросой в зубах, шел мимо, он останавливался у некоторых станков и как бы нехотя, прищуриваясь и покачивая головой, как болгары, из стороны в сторону, делал несколько точных ударов шпунтом7 или закольником8. И шаркал дальше. Эффект был потрясающий.
Если вспоминать папу, то он в основном сотрудничал с пятью постоянными резчиками. Среди них своей внешностью и безалаберностью выделялся Женька Егоров. Это был добрейший человечек, пластикой движений и внешне напоминающий клоуна Карандаша – очень популярного в те годы. Такой безотказный во всем: бегать за водкой, заказывать инструменты, раскалывать вновь привезенный блок, ставить его на станок (вес мог быть любым). Всё это было его работой. Выполнял он ее с энтузиазмом, спокойно, долго и неуклюже. Помню: чтобы расколоть блок, нужно было сначала просверлить дырки, то есть потратить где-то двое суток. Тихоходная дрель, немыслимого вида и веса, сверлила одну дырку больше часа. С инструментами в СССР вообще была проблема. Иулиан, правда, и тут оказался в своем амплуа. Помню, он как-то раз ввалился в мастерскую со свитой посольских шоферов, в руках у всех были блестящие коробки с английскими инструментами, видимо украденными из посольства. Некоторые из них, кстати, шлифуют и пилят до сих пор. Так вот, Женька. Пил он, надо заметить, не хуже других мраморщиков, и, заезжая с друзьями в мастерскую во внеурочное время, мы не раз замечали существо, бегающее по двору в темноте на четвереньках и издающее при этом мистические звуки. Наутро, как правило, нас с родителями ждал сюрприз в виде отбитого носа, а то и всей головы, лежащей рядом с полуфигурой, которой вот-вот на выставку. На наши вопросительные взгляды он отвечал одинаково гениально: «В нашем деле не бывает неудач». Затем брал что-нибудь лежащее рядом – например, гипсовый фрагмент древнего египетского рельефа, который только что отформовали, по-деловому лил на него эпоксидку, замешивал ее с отвердителем моей любимой галтелью9

