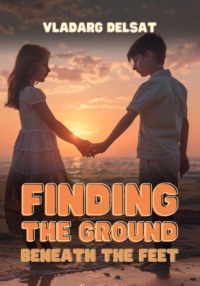Полная версия
Победный день
Когда не было смен, Гриша и Маша дежурили в числе других, защищая свой дом. С крыши ребята постарше и взрослые сбрасывали зажигательные бомбы, а Самойловы засыпали их песком. Правда, в декабре стало хуже – скользко, трамваи уже не ходили, поэтому путь к заводу занимал час. Но ребята втянулись, не чураясь тяжёлой работы, потому что за неё им давали хоть какой-то суп или студень в столовой.
Самойловы, безусловно, знали, что творится в городе, слыша разные слухи, прислушиваясь к новостям. Весть о контрнаступлении под Москвой наполнила сердца ленинградцев надеждой, но до прорыва Блокады – ещё далеко. Декабрь выдался очень холодным, температура опускалась до тридцати пяти градусов, что было особенно заметно ночами. К середине месяца Самойловы домой уже не уходили, ночуя в углу цеха. Впрочем, так делали очень и очень многие.
Под звук метронома, под стихи Ольги Берггольц, под сводки Совинформбюро город боролся. Юные Самойловы начали забывать детдом, прошлое «будущее» им казалось уже нереальным. Всё чаще накатывала усталость, но нужно было работать, чтобы жить, и они работали. Самойловы ложились в углу цеха и спали несколько часов между сменами, а рядом спала и тётя Зина, ставшая им настоящей мамой за это время. Требовательная, жёсткая, когда нужно, но вместе с тем бесконечно добрая и ласковая, она представлялась идеалом матери для Маши, да и для Гриши.
Женщина всем сердцем приняла детей, казалось бы, чужих, но всё чаще называвших ее мамой. Она давала Маше и Грише то, чего они не знали, как оказалось, никогда, – настоящее тепло семьи. В страшное, «смертное» время двое почти детей обрели маму. И Надю, конечно, как же без неё?
– Я вот думаю… – сказала как-то Маша. – Хорошо, что мы здесь оказались. Пусть тяжело, но у нас есть мама и Надя…
– Я тоже об этом подумал, – согласно кивнул Гриша, с трудом вставая. – Пойдем в столовую, говорят, там студень дают.
Студень казался блюдом, сваренным неизвестно из чего. Когда-то давно Машу бы вырвало просто от вида серой массы, а теперь девочка и мальчик чего только не ели. Нужно было есть, нужно было пить, просто чтобы жить. Зачем жить, юные Самойловы не думали – сказали «надо», значит, надо. На этом все размышления заканчивались. Надо поесть, надо причесаться, надо встать, надо идти, надо работать, надо жить…
Ёлка для малышей, новогодний праздник. Худенькие дети устало водили хоровод и просили Дедушку Мороза. О том, чтобы закончилась война… о сухарике. А некоторые – просили вернуть сестрёнку, братика или маму, и слышать это было больно до слёз. Но слёз уже не было. Ленинград вступал в тысяча девятьсот сорок второй год. Несдавшийся город боролся, и Самойловы боролись вместе с ним.
«О ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба —
он почти не весит на руке…»5
Глава пятая
Мама умерла внезапно. Мама Зина, превратившаяся почти в скелет, находила доброе слово для своих детей, выглядевших ничуть не лучше. И вот её не стало. Женщина не просыпалась, как Маша ни старалась её разбудить, понимая уже…
– Мама! Мама! – закричала Маша, к которой кинулся от станка Гриша и вскинувшаяся Надя.
– Машенька, не надо… – мальчик утешать не умел, он просто обнял свою девочку.
За прошедшие месяцы Гриша и Маша стали очень близкими душевно. Физически-то они с первых дней спали рядышком, так было просто теплее. Но вот душевно, несмотря на голод, для Гриши всей жизнью, её смыслом – стала Маша. Некоторые родители так относились к своим детям, как мальчик относился к девочке и, разумеется, это не могло оставить её безучастной.
– Идите, дети, мы отвезём, – глухо произнёс мастер, отлично понимая, что этих троих теперь надо поддерживать, – они лишились самого важного человека в жизни.
– Спасибо… – прошептала Надя, чувствуя горе младших.
Осознать, что мамы больше нет, девушка не могла. Теперь мам Зину увозили на Охтинское кладбище, куда, наверное, однажды увезут и их. Для Маши это оказалось ударом намного более тяжёлым, чем даже для Нади, что было заметно. Но постепенно всё возвращалось… Голод, холод, яростный голос Ленинградского радио и Гриша, отдававший Маше почти весь свой хлеб. Надежда поражалась: как жил мальчик? За счёт чего? Но он жил, жил, согревая девочку и давая какую-то уверенность и ей самой.
Едва стоя за станком, качаясь от голода и от усталости, Самойловы вытачивали болванки снарядов, надеясь на то, что рано или поздно Блокада закончится. Придут наши, прогнавшие уже немца от столицы, и будет много хлеба. Маша будто бы забыла всю историю, которой их учили в далёкой уже бывшей жизни. Оставалась только надежда. Слушая Ленинградское радио, желая отомстить фашистам за всё, что они натворили: за детские маленькие тела, за бомбы, падающие с неба, за… за всё, они работали. Выстаивая смены, вытачивая такие нужные фронту снаряды, трое постепенно становившихся дороже друг другу людей приближали Победу.
На фоне трупов на улицах, исчезновения эмоций, постоянной усталости и голода, они чувствовали всё более тесную связь друг с другом. Надя любила слушать сказки про «будущее», в чём-то страшные, в чём-то немыслимые. Гриша же знал, что должен сделать даже невозможное для того, чтобы Маша и Надя жили, и втихомолку отдавал часть своего хлеба девочке, отлично понимавшей, откуда берётся тот хлеб, но… Маша не могла найти в себе силы отказаться от дополнительного кусочка, чувствуя Гришу почти родным, – ведь он её спасал. Надя тоже видела это, но ничего сделать не могла – мальчик был упрямым.
«…О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на охтинском, на правом берегу»6
И будто вторя злым, яростным строкам Ольги Берггольц, Маша и Гриша точили снаряды, буквально представляя, как они будут рвать тела проклятых фашистов. Просто на куски будут рвать, за всех! Но даже на ненависть сил не хватало, усталость всё нарастала. Маша понимала – рано или поздно она упадёт у станка, как Ритка из второго цеха, и её увезут на саночках в последний путь. Сожаления не было. Ничего не было, только снаряды, завод, хлеб и воздушные тревоги. И Гриша. Гриша, отдававший ей свой хлеб.
– Надька, – позвал мастер старшую Самойлову. – Кинотеатры открылись, вот тебе билет.
– Дойдём ли… – прошептала девушка.
– Дойдёте, – понял её немолодой мужчина, похожий на скелет, как и все они. – Сейчас цех организуем, и пойдём все вместе.
– Спасибо, – тихо произнесла Надя, промеряя глубину борозды. До нормы оставалось ещё три заготовки, а там можно будет и отдохнуть – чуть-чуть, совсем немного. Отдохнуть, съесть кусочек хлеба, посмотреть, как там младшие.
Дойти было непросто, но они дошли. В промёрзшем кинотеатре показывали минувшее время. «Ленинград в борьбе» – так называлась картина. Недоумевая, зачем фильм показывают им же, Маша, прижавшись к Грише, смотрела, узнавая, в том числе и знакомые места. Глядя на упрямо идущих людей, Самойловы вдруг поняли – они выжили, город выжил, не смогли его задушить проклятые фашисты. А ещё стало понятно: то, как они боролись и выжили, увидит вся страна. Вся огромная страна будет смотреть на них, и только от этой одной-единственной мысли становилось теплее на душе.
Женский голос из репродуктора рассказывал им о том, что Гриша с Машей видели и сами, но он делал главное. Самым важным было понимать – они не брошены, не одни! И Самойловы понимали это. «Дорогой жизни» шли в осаждённый город драгоценный хлеб, горючее, металл… Каждый день сквозь метели, огонь и дым героические люди везли жизнь Ленинграду. Политработники, днём так же стоявшие у станков, а вечерами рассказывавшие измученным людям о том, что страна борется, тоже давали надежду: придёт день – и Блокада падёт, придут наши. С этой надеждой девочка жила, а Гриша точно знал, что да – падёт, но до тех пор ещё много дней и ночей. И с этой надеждой они вставали каждый день, с трудом, боясь привычного удара холода, вставали и шли к своему станку.
Ещё они разговаривали. О том, что было до войны, и мечтали о том, что будет, когда придёт Победа. Волшебные, сказочные мечты о том, как счастливо станет жить, когда прорвут Блокаду. Но Гриша и Маша как раз пришли из того времени, когда Блокады не было, правда, не существовало уже и Советской страны, боровшейся сейчас вместе со всеми… Мальчик отлично понимал – случись подобное в девяностых, и… Все бы задрали лапки.
– А ещё каша такая есть, «гурьевская» называется. Она как шоколадная, сладкая-пресладкая, – рассказывала Надя. Эти воспоминания заменяли им сказки на ночь, ведь самим младшим Самойловым вспомнить было нечего.
Маша мечтала о том времени, когда закончится война. Понимая, что без Гриши жить уже не согласна, девочка представляла себе будущее, когда они станут семьёй, погружаясь в свои волшебные сказки. Сильно изменившаяся Машенька, изменив тем самым и Гришу, мечтала о кружке тёплого, непременно тёплого молока, и о хлебе… С маслом и сахаром, как в рассказах Нади.
***
Где Маша простыла, Гриша не понял, но, надеясь поначалу, что это пройдёт, мальчик тем не менее старался отогреть девочку. Простуда всё утяжелялась, появился жар, но так как они все втроём ночевали на заводе, то девочку увезли в больницу, что давало какой-то шанс. Гриша дрожал за Машу так, что не мог ни о чём больше думать – только о ней. Ему было безумно страшно от мысли, что девочка не выживет. Потому после смены он с трудом, но доходил до больницы, чтобы помочь хоть чем-нибудь.
Сначала Маше было очень плохо, она балансировала буквально на грани, но в редкие минуты, когда приходила в сознание, девочка видела мальчика или слышала о нём от медсестёр, не прислушивавшихся к тому, о чём просила в бреду больная. Чего они только не слышали. Прогноз у истощённой Маши был сильно так себе, но Гриша где-то нашёл нужные травы, выкопав их из-под мартовского снега. Ради них он пошёл туда, где падали бомбы и снаряды, – на самую окраину города. Редкие в это время травы помогли, девочка медленно пошла на поправку.
– Не умирай, пожалуйста, – попросил Машу мальчик. – Без тебя не будет смысла жить.
– Я… не… умру… – ответила девочка, поражённая его словами. – Я… буду… всегда… И… ты… будешь… – говорить ей было очень тяжело, но Маша справлялась. Уже почти забыв жизнь до, девочка приняла себя новую, а также страну, завод и Блокаду.
Очень помогала Ольга Берггольц. Зовя, требуя – жить! – поэтесса непостижимым образом заставляла бороться. И Маша боролась, а Гриша… Он просто надеялся. Мальчик каждый день надеялся на то, что его девочка выздоровеет. И случилось чудо. По мнению врачей – почти невозможное. Не прошло и месяца, как очень слабая после болезни Маша встала на дрожащие ноги. Это был, пожалуй, праздник.
По некоему стечению обстоятельств в тот день стало теплее – наступала весна. Семья выжила, пережив самое страшное время. Надя радовалась вместе с ребятами, став очень тоненькой, хрупкой, но оставаясь живой. И она жила, как жили и мальчик со своей девочкой. Как жил несдавшийся город.
– Весной будет проще, – люди надеялись, мечтали об этом и очень ждали лета. Всем хотелось тепла, иногда даже больше, чем хлеба.
Казалось, самое страшное, ледяное время прошло, но с весной организмам нужно больше витаминов, а вот взять их было неоткуда. Маше было чуть попроще – в больнице кормили несколько лучше. Давали и молоко – соевое, и горькие витаминные напитки, пахнущие хвоей, а иногда даже сладкие, поэтому девочка смогла вернуться на завод, снова встав к станку.
А Надя поняла, что её трогает только то, что будет со «своими», к которым теперь относились только эти двое, – трупы, умирающие дети, голодные глаза девушку уже не трогали. Она на многое насмотрелась за прошедшую зиму, которую даже описать вряд ли когда-нибудь будет возможно. Иногда Надя думала, почему этих детей взяли на завод, ведь ни одно предприятие не принимало детей младше шестнадцати лет, и не могла найти ответ. Также ей было непонятно, как они могли работать со станком, ведь такой труд очень тяжёл… Но Гриша и Маша работали. Каждой нормой приближая тот самый день, когда наступит Победа.
Но вот девочка уже не планировала, даже не мечтала о том, что будет после, для неё как будто не существовало никакого «дальше», только «сейчас». Всё стало рутиной – и воздушные тревоги, и снаряды, падавшие на город, и саночки… Все чувства и у неё, и у мальчика оказались укрыты мягкой подушкой, оставив только «надо». Но всё-таки что-то было ещё – у Самойловых были они сами.
– Закончится Блокада, – сказала Надя как-то вечером, – будет много хлеба с маслом…
– Не верится, – прошептала в ответ Маша. – Кажется, что навсегда, до самой…
– Не смей так думать! – прикрикнула девушка. – У тебя есть Гриша и я, а у меня есть вы, поэтому всё будет хорошо.
– Всё будет хорошо, – твердо произнёс мальчик. – Иначе быть не может!
Когда-то давно, в прошлой жизни, слушая рассказы о Блокаде, он даже не представлял себе, как оно было на самом деле. Намного страшнее оказалось это время, но и честнее. Возможно, не везде было так, но для Гришки военное время представлялось искренним, каким-то очень открытым, да и люди казались совсем другими. Кто-то озлился, кто-то устал, кто-то пытался отогреть близких, а кто-то, по слухам, озверел. Но вот «хозяев жизни» Гришка совсем не видел и одно это считал добрым знаком. Город, несмотря ни на что, боролся, а проклятых фашистов рвали на куски снаряды, выточенные его руками.
В Ленинграде наступала весна; казалось, должно стать легче, проще жить, но… Впереди было ещё очень много дней и ночей до того самого дня, когда ставший почти родным за долгое время голос с радостью произнесёт: «Прорвано проклятое кольцо». Гриша знал, что этот день наступит.
***
Несмотря на весну, становилось только тяжелее. Люди по-прежнему падали на улицах, их вывозили… Но уже не было скользко и сделалось теплее, хотя ни Гриша, ни Маша тёплых вещей не снимали – холод, казалось, поселился где-то внутри. Он жил в них обоих, грызя саму душу. Но они продолжали работать, даже падая без сил у станка, потому что за это им давали хлеб, кормили в столовой, стараясь поддержать и хоть немного помочь. Дети получали шанс дожить до завтра.
Гриша иногда чувствовал внутреннюю усталость, желание опустить руки, но не позволял себе это сделать, ведь и Маше было тяжело. Мальчик тормошил свою девочку, и Маша оживала. Под бомбами они зачастую выходили за пределы города – поискать травы, хоть что-нибудь, что могло помочь витаминами, разнообразить отсутствующее меню. Казалось, весной стало ещё страшнее, чем зимой, но это, конечно же, только казалось.
Усевшаяся на скамейку Надя просто не могла подняться. У девушки не осталось, как она думала, совсем никаких сил. Она бы так и осталась сидеть, как многие до и после неё, но непорядок заметил Гриша, сразу же подбежавший к Наде, а за ним поспешила и Маша, ведь порознь младших вообще уже было не встретить.
– Не могу больше, – вздохнула Надежда. – Просто сил нет…
– Ты должна, – Маша тянула девушку. – Гриша, помоги! – вдвоём они поставили Надю на ноги, принявшись тормошить, отчего та вскоре прогнала своё настроение. Хотя апатия, на самом деле, никуда не делась, будто бы затаившись где-то внутри…
– Гриша, пойдём за водой? – дети были очень истощены, поэтому Маша не могла сама, да и не ходила она никуда одна.
– Пойдём, родная, – мальчик и не заметил, как у него выскочило это слово.
Но девочка в ответ просто коротко прижалась к Грише. Если бы могла, она бы улыбнулась сейчас, только вот улыбки куда-то делись, как и почти все эмоции. Осталось только чувство голода и Гриша, который необыкновенно быстро стал самым близким на свете человеком.
Иногда в сны приходила мама Зина, подбадривая и поддерживая своих детей, снова и снова находивших в себе силы жить. Даже после смерти мама была с ними.
Глава шестая
Весна тянулась чуть ли не медленнее, чем зима, но спешить детям было некуда. Надежда уже очень хорошо понимала, что не пережила бы зимы, если бы у неё не было этих двоих, и девушка перестала хандрить, проживая день за днём. Всеми тремя Самойловыми овладело какое-то отупение, но тем не менее они продолжали жить и работать. Жить, как требовало Ленинградское Радио. И они жили… Под взрывы, сирены, они жили, как жили рядом с ними друзья. Настоящие друзья, готовые поддержать и помочь.
– Школы открылись, – мастер задумчиво посмотрел на Надежду. – Надо бы твоих туда…
– Кинотеатры тоже открылись, да сил почти нет, – вздохнула девушка. – Но Маша с Гришей ведь работают… Хорошо же работают?
– Ладно, потеряем направление, – согласился сильно сдавший мужчина. – Может, и выживут…
– Спасибо! – Надя не могла улыбаться: пережитое зимой по-прежнему давило на неё, а уж болезнь девочки, чуть не ставшая катастрофой для них всех… Смог бы Гришка пережить потерю Машки?
Вечером девушка рассказала детям о разговоре с мастером, заставив и Машу, и Гришу удивиться, но оба приняли реальность как факт, не стараясь что-то изменить. Ведь если бы их отправили в школу, то отменились бы рабочие карточки… А столовая очень много делала для того, чтобы Самойловы смогли выжить.
– Вы у меня молодцы, – Надя вздохнула, в задумчивости поглаживая своих младших, сидевших рядышком, по головам. – Не представляю… вы в свои тринадцать стоите смены и выгоняете норму за нормой…
– Не надо об этом думать, – произнёс мальчик. – А то будет, как с сороконожкой…
– Когда у неё спросили, как она умудряется передвигать ноги? – тихо спросила Маша.
– Ну да… – кивнул Гриша. – Работаем и работаем, какая разница, как это получается?
– Тоже верно, – кивнула Надежда. – Завтра мы идём в кино, нам билеты выдали в заводоуправлении.
– Кино так кино, – согласилась Маша. – Я не против.
Надя заметила, что жизнь будто бы проходила мимо, ведь они втроём замкнулись на простом цикле: работа-сон-столовая. И всё… Зачастую даже не уходя домой, оставаясь в цеху. С трудом до них могла достучаться Берггольц, почти не воспринимались уже и сводки. Это, безусловно, заметили и старшие товарищи, практически принудительно послав всех троих в кинотеатр.
Хорошей новостью стали трамваи. До сих пор, практически живя на заводе, Самойловы даже не заметили, что теперь домой можно доехать. В этот день их ждало кино… В очередной раз кинотеатр принимал семью. И фильм, полный песен и уверенности в победе, оказался чем-то очень важным. Смутно знакомые песни проникали словно в самую душу, заставляя встряхнуться.
– Иди, любимый мой, родной… – тихо напевала Маша по дороге домой, обнимая Гришу.
– Всё будет хорошо, родная, – вздохнул Гриша.
– Скажи, ты помнишь… – девочка взглянула в глаза мальчика. – Когда?
– Прорыв в январе следующего года, – ответил Гриша, решив не говорить о полном снятии Блокады, – всё-таки оставалось полтора года, а их ещё надо было прожить.
Этот сеанс сделал очень хорошее дело – он принёс немного тепла в души тех, кого потом, через года, назовут «Блокадниками». Маша, вставая к станку, напевала песню, да и Гриша нет-нет, но тоже пел во время работы. И хотя сил почти не было, он пел. В цеху появлялись улыбки – робкие, натужные, но они яркими огоньками сверкали среди серой обыденности жизни.
Совершенно неожиданно умерла Лидочка – смешливая неунывающая девчонка, работавшая рядом с Машей. Она очень интересно рассказывала о довоенном Ленинграде, увлекая младших Самойловых этими рассказами. И вот… Лида присела у станка, как-то судорожно вздохнула, затем мягко повалившись на бок.
– Гриша! Гриша! – позвала Маша, подбегая к телу, но она уже всё поняла.
– Лида умерла… – констатировал подросток. – Надо мастера позвать.
Глядя на то, как подруга покидает цех, отправляясь в свой последний путь, Маша… не чувствовала горя. Просто не было в её душе ничего, будто деталь увезли. Мягкая подушка в её душе просто отсекла все эмоции. То же самое происходило и с Надей, да и с Гришей. Правда, с Надей в последнее время было не очень хорошо. Появившееся недомогание девушка проигнорировала, понадеявшись на то, что оно пройдёт само.
Так же Гриша отдавал им свой хлеб, которого как-то неожиданно стало больше, но и Надя втайне подкармливала Машу, потому что Гришу подкармливать было невозможно – он оставлял себе самый минимум, полностью сконцентрировавшись на своей девочке. Надя даже пыталась шутить, заботясь о своих младших, но сил оставалось всё меньше. С каждым днём ей становилось всё тяжелее вставать, всё сложнее работать…
Надя не чувствовала себя заболевшей, разве что уставшей. Резко усилилась апатия, начала чаще болеть голова, но Надежда не считала это важным. Болеть ей было некогда – надо работать. Дистрофия набирала обороты, девушка уже временами видела чёрных мушек перед глазами, когда поднималась с места. Состояние ухудшалось совсем незаметно, но Надя по-прежнему ничего и никому не говорила.
Однажды ночью ей приснилась мама. Она была совсем такой же, как и до войны. Зинаида очень грустно смотрела на свою дочь, и они вдвоём стояли в парке. Тяжело вздохнувшая женщина протянула дочери руку.
– Пойдём, Надюша, – произнесла она.
– Как «пойдём»? – удивилась Надя. – А как же младшие? Они там…
– Ты умерла, доченька, – Зинаида прижала к себе Надежду, как-то мгновенно оказавшись рядом. – Теперь у тебя будет свой путь, а у них – свои Испытания.
– Я не хочу, мама! – попыталась заплакать девушка. – Сделай что-нибудь, мамочка!
– Сейчас уже ничего не сделаешь, – женщина покачала головой. – Но когда их путь прервётся, им дадут шанс. Как и тебе – быть вместе с ними. Ведь ты этого хочешь?
– А ты, мамочка? – тихо спросила почувствовавшая себя маленькой-маленькой Надежда. Мама же только улыбалась, а для девушки медленно исчезали Блокада, Ленинград и её «младшие», к которым рвалось сердце так, как будто они её дети.
Не добудившись утром Надю, Маша запаниковала и позвала Гришу. На смену им надо было к вечеру, но они уже привыкли рано вставать и завтракать вместе. Гриша же, только увидев ставшую очень важной для них девушку, всё понял – они остались одни. Совсем одни на целом белом свете. Надя ушла легко, во сне, совсем не мучаясь, и вот теперь Грише предстояло произнести это вслух.
Только представив реакцию Машки на это известие, мальчик вздохнул. Всё было, как в дневнике Тани Савичевой. Теперь из всех Самойловых остались только он да Маша. Гриша помолчал, прижимая к себе уже понявшую, что случилось, девочку. Он оттягивал момент, сколько мог, но смерть никуда не делась.
– Машенька, родная… Наша Надя умерла, – слова упали в замершую тишину комнаты, навеки разделив жизнь на «до» и «после».
– Нет… Нет… Нет… – Маша мотала головой. – Почему она? За что? – слёзы катились по ничего не выражающему лицу, на котором жили только глаза. И глаза её сейчас выражали неверие, панику и такую боль… Просто невозможную…
Пойдя вместе с девочкой ко всё сразу понявшему дворнику, смотревшему на них с грустью, Гриша взял у него тележку. Пожилой, будто иссушенный, мужчина поднялся вместе с ними, чтобы помочь замотать Надю в старую простыню. Он помнил и Зину с Витей, и Наденьку – ещё совсем маленькой девочкой, и от этого видеть её мёртвой было больно.
Осторожно положив тело на тележку и закрепив его бечёвкой, старик только вздохнул, погладив девушку на прощание.
– Пойдём, надо её отвезти… – взявшись за верёвку, произнёс Гриша.
– Да… пойдём… – Маша всё не могла прийти в себя.
Им предстоял долгий путь, последний путь их Наденьки. Держась друг за друга, подростки медленно брели, даже не представляя себе, какой будет жизнь теперь, когда Нади нет. Она стала им обоим почти матерью, будучи абсолютно точно самой близкой на свете. И вот теперь они остались одни.
Мимо проходили люди, совершенно не обращая внимания на бредущих с низко опущенными головами подростков. Сколько их таких ленинградцы видели за это время. Маша молчала, постепенно осознавая изменения, молчал и Гриша. Везти тележку ему было совсем невесело.
Предстояло перейти мост, а там уже и… совсем недалеко за мостом находилось Охтинское кладбище, куда свозили умерших и погибших. Гриша думал о том, что если выживет, то будет приходить к Наде каждый день, ведь она стала им очень близкой. Правда, её смерть поколебала веру мальчика в то, что он выживет. Но нужно было жить – ради Маши. Ради того, чтобы она дышала, ходила, говорила…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.