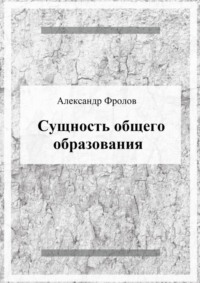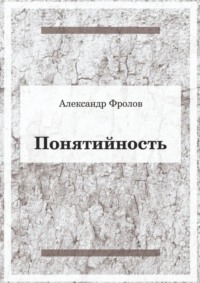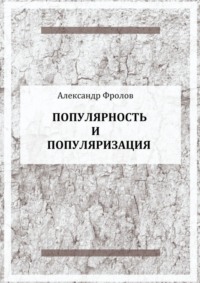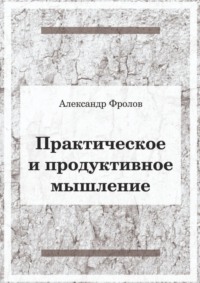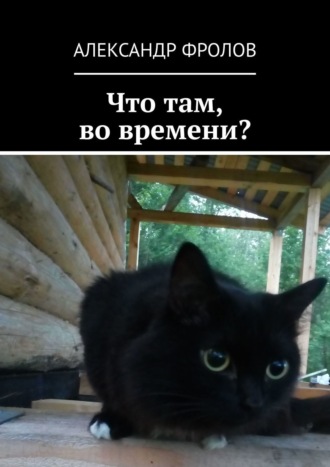
Полная версия
Что там, во времени?

Что там, во времени?
Александр Фролов
Редактор Марина Фролова
Дизайнер обложки Марина Фролова
© Александр Фролов, 2023
© Марина Фролова, дизайн обложки, 2023
ISBN 978-5-4493-2729-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
Эрих Фромм определял свободу как способ действий, основанный на осознании альтернатив и их последствий
В виртуальном пространстве наших мо́згов мы постоянно перемещаемся во времени. Мы остро эмоционально переживаем запомнившиеся нам ощущения контактов с людьми, которых порой уже и нет среди нас. Что это, как не путешествие в прошлое? Мы планируем на завтра приготовление шашлыка и очень живо представляем себе процесс разжигания мангала. И ведь на следующий день воспроизводим этот процесс в точности так, как представляли! Ну и что это сегодня, как не визит в будущее? И не так уж редки случаи, в которых нам трудно различить виртуальные и реальные перемещения во времени. А для жизни в малых временных промежутках они вообще сливаются в единый процесс.
Мы не можем идти в наше реальное будущее, совершенно не представляя его себе – «идти туда, не знаем куда, за тем, не знаем за чем». Будущее не возникает спонтанно. Оно строится нами через выбор дорог и поступков. Для ответственного построения жизненно важных ситуаций будущего нам остаётся, таким образом, одно: переместиться в это будущее и посмотреть, потрогать, понюхать – что там, во времени? А потом осознанно и ответственно идти, преодолевая препятствия и себя, к тому, что мы там увидели.
Как, посредством каких механизмов осуществляются перемещения во времени, определяющие реальное течение нашей жизни? На этот вопрос нет однозначного ответа, да и неизвестно, будет ли такой ответ когда-либо. Но то, что реальность перемещения определяется адекватностью наших представлений о мире, качеством памяти и экстраполяционными возможностями мозга, – не вызывает сомнений.
Мощь мозга, порождающая порой явления, кажущиеся нам загадочными, если не беспредельна, то уж, во всяком случае, чрезвычайно велика. В рамках этой мощи мозг представляет мир модельно, и мы мыслим моделями. И если уж мозг всерьёз берётся за дело, то отличить модель, порождённую непосредственными сиюминутными ощущениями, от модели, синтезированной из хранящихся в памяти разрозненных фрагментов опыта, мы, скорее всего, будем не в состоянии.
Всякое художественное произведение представляет собой плод фантазии автора – именно ввиду индивидуально-личностной модельности представления мира. Но вот создание доступной и понятной всем простой модели, на которой можно рассмотреть интересующий нас аспект психологических основ поведения человека – это уже научная фантастика. И если фантазировать о целях и возможных результатах жизненного выбора, то пусть это будет иметь научную основу. Тогда, по крайней мере, результаты будут осмысляемы и воспроизводимы. Например, при постановке и достижении целей.
Что там, во времени?
Научно-фантастическая повесть
Пролог
Элам Харниш сидел в плетёном кресле на террасе своего дома в Лунной долине в компании старого вожака последней любимой упряжки и такого же старого кота, всё ещё продолжающего защищать ранчо от нашествия мышей. Дид уехала в гости к сестре, и Эламу очень хотелось поразмышлять. Поразмышлять о времени. Всю жизнь он помнил: «время не ждёт». И мчался рядом с ним, с его потоком – то на собачьей упряжке, то в каяке, то просто кувырком с перевала Чилкут по натоптанной стадами чечако тропе. Время не ждало, но было вынуждено терпеть отчаянного наездника на своей холке.
Мелькала в той далёкой молодости мысль о конце этой безумной гонки, о любовании, сидя в кресле, восходами и закатами под мычание коров и ароматы, плывущие из кухни. И вот, когда эта возможность приобрела черты реальности, когда показалось, что время притормаживает и готово подождать неспешного его препровождения, инстинкт, обострённый Севером, насторожился. Жизнь течёт во времени и, если время останавливается, останавливается и она. Вне времени – только смерть. А со смертью Харниш не мог примириться никак. Поэтому коровы – коровами, закаты – закатами, а весь этот мир в целом, с его тропами и мчащимися по ним упряжками, надо передать в надёжные руки. И ноги. И поручить его надёжным головам. А что может быть надёжнее рук, ног и головы Элама Харниша? Ничего. Значит, надо наделать ещё харнишей, а затем всё содержимое мира взять, собрать, взвалить на их плечи и окончательно довести до ума их усилиями. Как только это стало ясно, время перестало делать вид, что ждёт, и привычно понеслось вскачь. Хрипя, сопя и прихрамывая, Харниш поспешал за ним: за девиз надо было отвечать. Поспешал, как всегда, в хорошей компании.
То ли резкий свист, то ли пронзительный визг сорвали с места огромную собаку, почти мгновенно скрывшуюся за домом. Тишина, в которой было так хорошо размышлять, сменилась гомоном детских голосов, взлетавших порой до воплей. Пару раз грохнул тяжкий басовитый лай, и из-за дома, из леса к террасе выкатилась компания из нескольких детей лет от пяти до восьми. Они были в драных грязных одёжках, чумазы, вооружены палками и громко тарахтели что-то, непрестанно поминая папу, деда и ещё кого-то. Старшая девочка в обращении была наиболее внятной:
– Сашенька, там лосёнок, он один, ему надо помочь, время не ждёт!
Возразить нечего. Лизавета права – действительно, оно не ждёт. Чёрта с два тут побудешь Харнишем. Надо, скрипя креслом и кряхтя, вставать и идти заниматься спасением лосёнка в качестве тренинга для спасителей мира. И нечего тут размышлять.
Москва, 20 июня 1966 года, ~15.30
Замóк старенькой обшарпанной лабораторной двери щёлкнул. Слабый гул мешалок кристаллизаторов и потрескивание реле регуляторов температуры остались там, внутри. Там же, где осталась основная часть последних четырёх лет моей студенческой жизни. Да и короткой пока ещё жизни вообще. Лаборатория, в пустоте бетонных стен которой я познакомился с инструментом по имени шлямбур – стальной трубой с зубьями на одном из концов, – и с помощью этого инструмента и кувалды долбил в стенах первые дыры для установки оборудования, перестала быть моим домом. Домом родным и обжитым, наполненным не только приборами и устройствами, но и привычными бытовыми деталями. И ещё наполненным домочадцами – добрыми и тоже привычными. Теперь мне бывать здесь только в гостях, хотя и буду заходить, приходя на факультет за всякими документами и прочей дребеденью, ещё недели две.
Я иду по привычному подвальному коридору факультета и не перестаю удивляться его киногеничности: стены сомнительной белизны, бетонный пол, ряды и слои труб под потолком, связки кабелей. Но главное – теряющийся в полутьме освещения слабыми лампочками конец коридора. Он кажется тянущимся в никуда. Фантастика какая-то. Наверное, именно здесь черпали вдохновение разнообразные описатели изнанки мира научной работы.
Выхожу в цокольный этаж, а потом – в фойе здания факультета. Навстречу – инспектор курса Анна Афиногеновна, добрейшей души женщина, не раз помогавшая мне в сложных перипетиях факультетской внутренней политики.
– Здравствуйте, Анна Афиногеновна!
– Здравствуй, Саша! Всё работаешь? Когда уезжаешь?
– Через две недели.
– Жаль, что в аспирантуре тебя не оставили.
– Да, жаль. Что ж, сам виноват – знал, что делал.
К тому времени я успел развестись с женой, с которой мы остались действительно хорошими друзьями. Но вот партия и комсомол в лице своих факультетских организаций мне этого не могли простить. Они просто не могли понять, какое право имеет вчерашний студент быть высококвалифицированным научным работником, если его моральный облик не соответствует их представлениям. Вот и пролетел я над аспирантурой как фанера над Парижем. Беспосадочно и неотвратимо. Анна Афиногеновна, как мать нашего потока, сочувствовала мне, и я это ценил.
– Ну ты же будешь приезжать?
– Конечно, Анна Афиногеновна.
– Давай, Саша, всего тебе хорошего. Зайди попрощаться. А завтра, не забудь – за дипломом. А то Головин уходит в отпуск, и поедешь ты без диплома.
– Сплюньте, Анна Афиногеновна! Конечно, буду как штык! До свидания!
И я со всей возможной прытью деловито покинул фойе. За факультетской дверью лютовал необычно жаркий июнь. Всё как-то не до него было. А вот тут он навалился на меня всей тяжестью начинающей покрываться городским налётом листвы и уже по-летнему белёсого неба. И плющил, выдавливая всякое желание думать о чём-либо серьёзном. Вдруг в этом заполняющем голову вязком бездумье я отчётливо услышал ноту, которая исподволь фонила в последние дни. Ощущение было такое, словно меня кто-то неясно зовёт – очень издалека и непонятно куда. А главное – непонятно зачем. Зов этот словно куда-то тянул, и я начал казаться себе просыпающимся от спячки расшеперившимся ежом, пытающимся пойти одновременно в нескольких направлениях. Я встряхнул головой и начал всплывать из мути летней одури. Нота тут же растаяла – как и не было её. Зато тут же я себя поймал на том, что совершенно перестал хоть как-то представлять себе своё будущее. Юношеское видение себя физического в белом халате среди переплетений дивных конструкций из нержавеющей стали и стекла, слава Богу, изжило себя. Уже стало понятно, что научная работа – это шлямбур, таскание оборудования, его наладка, прожжённая одежда (а иногда и кожа), привкус какого-то реактива на губах и красные от бессонницы глаза. И много ещё чего, но только не приросший намертво белый халат. А теперь и подавно – в деревню, к тётке, в глушь… Ну, не совсем в Саратов – в Алма-Ату, но что там, что там никакой рост кристаллов мне не светит, это уж точно.
Лестница физфака, нагретая июньским солнцем, оказалась пустынна как трибуна заброшенного стадиона. В самом начале учебы на физфаке я её уже видел однажды такой – пустынной. И стоял на ней лишь один человек небольшого роста с портфелем. Просто остановился по пути на факультет и неподвижно думал о чём-то своём. Это был профессор Иваненко, один из столпов теоретической физики. И сосредоточенно думал он, наверное, о классической теории поля. Или об утренней размолвке с женой. А теперь одиноко стоял на той же лестнице я и размазанно думал о непонятности и непредставимости своего будущего – научного, да и вообще. Прозрачная, но непроходимая стена времени уже отделила меня и от факультета, и от Иваненко, и от всего, что происходило со мной до сих пор. Теперь же наступила сплошная неопределённость, в которой трудно нащупать что-либо внятное и более или менее привязанное к конкретному времени.
Правда, в этом болоте неопределённости просматриваются размытые силуэты ориентиров. Я вырос в предгорьях Тянь-Шаня и с детства бегал по предгорьям, горам, лежащим у их подножья степям и пустыням. Эти картины остались во мне, и я, наверное, буду стремиться к той или иной жизни среди них. Хотел, хочу и буду хотеть уютный дом, вписанный в природу, с ёлками, цветами, птицами, зверями и прочей живностью. Главное же, конечно, – работа. Страсть к исследованию мира, в который попал, вколочена накрепко – от книг, прочитанных в детстве и юности, в сочетании с беготнёй по природе, до того, что посеяли университетские учителя, в основном – великие. Великие Ландау, Тамм, Шубников и другие на физфаке, великие Колмогоров и иже с ним на мехмате, великая Галкина-Федорук на филфаке… Учение у них всех, слушание их курсов и отдельных лекций закономерно вызвали порыв туда, вперёд, в познание всего, в светлое будущее всех – и своё, и человечества в целом. Так уж, в заботе о благе человечества, нас воспитывали и до сих пор воспитывают, и потихоньку я начинаю это осознавать. Да и круг интересов при этом осознании расширяется. Если сначала это была физика (почему – не совсем понятно), и было желание понять, как именно растут кристаллы, то теперь понемногу начинает просыпаться интерес к людям, их мышлению и их поведению, к которому это мышление приводит. Понимаю, что при достаточно детском видении деталей я смирился с судьбой научного работника в целом, в том числе – с уплатой любой цены за эту судьбу. Да, лестница физфака волшебна – вон на какие мысли подвигает, хоть ты и не Иваненко или кто ещё из больших и великих.
Сунул руку в карман рабочих штанов и нащупал там пакетик с кристаллами перовскита, которые прихватил зачем-то с собой – наверное, на память. Или вдруг да придёт в голову идея, в связи с которой они пригодятся. Как-никак, не так уж много людей, которые знают об этих кристаллах столько же, сколько я. Вот только кому кроме моего шефа Владимира Карловича эти знания нужны и зачем? Мне этого понять пока так и не удалось – не те уровень и опыт. Но хочется за что-то зацепиться в наваливающемся на меня рабочем научном будущем.
Неприкаянность гонит куда-то девать себя сегодня вечером. Странное состояние: хочется в это самое «куда-то» деваться, а конкретики не хочется никакой. Друзья и приятели, в основном, разъехались. Подруги и приятельницы – тоже не по настроению. Состояние «чего-то хочется, а кого – непонятно». Ну, вечером традиционно зайдёт выпить кофе ещё не уехавшая на каникулы в родную итальянщину соседка Пина Дистефано, чтобы взбодриться для ночной филологической зубрёжки. Её муж Натале Равалья, студент физфака, на год в родной армии, и Пенелопа Пина вся в учёбе. С изящной Пиной у нас почти церемонные отношения. Роднят соседство по общежитию, любовь к вечернему кофе, после которого я особенно хорошо сплю, и доброжелательное взаимное непосягательство. Так, выпили кофе, немного пощебетали на упрощенном русском о судьбах мира и разбежались по своим делам. То есть, я – спать, Пина – зубрить чешскую филологию. Но сегодня и с безобидной Пиной общаться не хочется.
Там же, ~16.10
Зашёл в столовую зоны «Б». На раздаче Валюша, по южному спортлагерному прозвищу Пеструн Иванович – за специфическую манеру одеваться, – приветливо улыбнулась в тридцать два зуба и, извиваясь кажущимся таким хрупким телом, одарила меня ударной порцией мяса и прощебетала время окончания её рабочего дня. Я со скорбным выражением лица посетовал на начинающееся через два часа дежурство в лаборатории и поинтересовался её рабочим графиком на ближайшие дни. Чуть картинно не разрыдался, узнав, что завтра возвращается из командировки её муж. Внутренне же позлорадствовал: внешняя хрупкость Пеструна – всего лишь полированный кузов мощного гоночного автомобиля или парадная попона выведенной на обозрение публики неутомимой скаковой лошади. Вот пусть экс-командированный и скачет. Накопил, небось, в командировке-то сил и здоровья. А у меня – внутреннее томление. Мне не до лошадей и гоночных машин.
На входе в родную зону «Б» вахтёр Мариванна – седенькая, в букольках – цепким взором бывшей и нынешней контрразведчицы скользнула, опознала, улыбнулась. Я церемонно поздоровался. Черт возьми, весь МГУ знает, что я уезжаю. Как мог, поутешал Мариванну, огорчённую предстоящей нашей разлукой. Она всегда (разумеется, в рамках допустимого, хотя и расширенных) хорошо относилась ко мне. Это значит: в свои дежурства пропускала и, главное, выпускала без последствий моих неположенных гостей в неположенное время; предупреждала о возможных проверках внутреннего распорядка и уровня нравственности; закрывала или хотя бы прищуривала глаза на порой имевшую место развесёлость как одного, так и в компании. Поделился с Мариванной своими планами на вечер – сходить или съездить к кому-нибудь в гости или попринимать гостей. Получил одобрение кивком.
Восьмой этаж ещё в лифтовом холле встретил меня скандальным гулом перуанского землячества, заседавшего в этажной гостиной среди пианино и фикусов. Какого-то очередного оратора как раз выбросили из гостиной плашмя в коридор. Он деловито отряхнулся и примкнул к собратьям, слушающим следующего говоруна. А вчера вечером здесь царили тишина и порядок. Потом мы эту тишину скромно нарушили пением под гитару, сидя небольшой компанией на диване в лифтовом холле. Когда я пел про то, как перепеты все песни, меня сфотографировал Сережка Чекалин. Я похихикал по поводу сомнительности получения фотографии и ушёл в свою последнюю лабораторную ночь, прихватив сумку с ночным перекусом, парой книг и недовязанным свитером.
Наконец, я у двери своего блока. Дверь заперта. Открываю, вхожу в прихожую. Тишина и неподвижность за матовым стеклом соседской двери напомнили о том, что сосед, аспирант Толя Хилов, вчера уехал к себе домой, в Тулу, и вернётся не раньше, чем дня через два. У меня в комнате образцовый порядок, который я оставил вчера, уходя в лабораторию. Мы научились раскладывать узенькие казённые диванчики в двуспальное состояние – смотрится очень мило, да ещё при красивом пледе. А стоит диванчик в комнате так, что не только через матовое стекло, но и в замочную скважину запертой двери любопытному не увидеть этого предмета мебели и его населения. В данный момент состояние и наполнение этого спортивного сооружения меня не волнует. Я раздеваюсь догола, складываю и развешиваю одежду в шкаф, запираю входную дверь в блок, кладу ключ на стол рядом с ключом от комнаты и иду в душ.
Обычно процедура приёма душа у меня коротка. А тут что-то разомлел и торчал в душе как столб минут двадцать. Журчание воды успокаивало, успокаивало… и успокоило. Закрыл краны, вышел из-под душа, вытерся большим махровым полотенцем и, слегка влажный, плюхнулся на плед, покрывающий диван.
Там же, ~17.30
Ну, и сколько можно так валяться?! Надо чем-то себя занять. Читать не хочется. Звонить никому не хочу, да и видеть никого – тоже. Так, вполне мирно не хочу. Просто не хочу. Но и лежать надоело. А пойду-ка я просто так пройдусь, перемещусь в пространстве, раз уж места себе не могу найти.
Опять полез в шкаф. Выбрал новые брюки от Вити Степанова. Очередной шедевр модельера министров и космонавтов приятно обнял части тела, для которых был предназначен, и заставил подтянуться остальные. Надел белую рубашку. Подумал и выбрал один из двух универсальных галстуков. Ещё подумал и надел лёгкий джерсовый пиджак, привезённый мне недавно приятелям-поляком. По пути незаметно для себя обулся. И вот стою перед зеркалом, вполне удовлетворённо разглядывая доступную взору часть отражения себя. Хорош, однако! Можно выходить в свет, в сумерки, в ночь. Впрочем, ночи нынче практически белые, и особого различия нет.
Что-то слегка закружилась голова. Захотелось присесть. И чтобы никто не лез. И даже Пина с питьём кофе. Хотя для Пины – сильно рановато. Беру со стола ключ, запираю изнутри дверь в комнату и кладу ключ обратно на стол, рядом с ключом от двери блока. Сажусь на диван. Снаружи, из прихожей, я невидим. Смотрю на часы: семнадцать пятьдесят с небольшим. Вяло подтягиваю рукой подушку, кладу её на спинку дивана и опираюсь на неё спиной. Полулежу, значит. Закрываю глаза. И проваливаюсь.
Рыжиково, Свердловская область, 20 июня 2024 года, ~16.00
Удивительный сегодня день, а уж к вечеру – и подавно. Прямо картинный какой-то. Я сижу на террасе своего, как его называют у нас в семье, «кабинетного домика». Терраса закрыта от прямых лучей солнца листвой вяза и рябин, стеной девичьего винограда и вьющейся жимолости. Так что здесь не жарко, но достаточно светло. Не заслонённая зеленью часть террасы выходит к саду, за которым – озерко с карасиками и купальней, и к поляне, на которой сейчас вовсю цветут рододендроны. Я как-то разглядел необычную для наших краёв пышную красоту этих растений и развёл их – таких разных по росту, цвету, форме цветов, соцветий и листьев. И каждый год жду периода их цветения. Люблю сидеть в плетёном кресле на этой поляне и внутренне растворяться в дивном пространстве. Здесь не может быть одиночества – кричат и поют разные птицы, греются в стриженой траве ящерицы, шуршат мелкие грызуны, до которых не успел добраться Пуся, и к левой ноге привязан невидимой верёвочкой Атос в свободное от периодических обходов периметра усадьбы время. А если за стеной высоченных пихт, на соседней поляне, сплошь занятой густыми здоровенными папоротниками, резвится и играет малышня, звонкие ниточки её воплей надёжно привязывают эту рододендроновую обособленность к общему потоку жизни. Купаться и кувыркаться в этом потоке – такое удовольствие, что даже периодическое беспокойство по поводу получаемых детьми ранений и ушибов только подчёркивает общую радостную тональность существования.
А сейчас я вижу сад, дорожку к озерку и поляну рододендронов с террасы. Этот мир, вид которого обрамлён стеной винограда, золотистой бревенчатой стеной дома, перилами террасы и её потолком, создан мной. И он останется после меня моим близким, когда закончится моя земная командировка и я вернусь к себе на Тау Кита. Эти самые близкие называют меня «таукитянином». Мне нравится такой юмор, потому что он очень точен. Ведь осмысленные и самые по-настоящему человеческие решения в бездумном и потому безумном потоке бытовухи всех уровней – от политики до постели – выглядят несколько необычными. Следовательно, нечеловеческими. И ты становишься либо местечковым сумасшедшим, с которого нечего взять, либо, в случае признания, объектом охоты на экзотическую инопланетную дичь, которой должно быть неповадно существовать, смущая нормальных людей.
В мае мне исполнилось восемьдесят два года, и я особенно остро чувствую бег отпущенного мне времени. Кем отпущенного? Такое впечатление, что кто-то когда-то его привязал, закрыл в камере или загоне, а сейчас отпустил. Вот оно и несётся теперь вскачь. Или течёт подо мной меж ножек любимого кресла позёмкой барханного песка. Я физически ощущаю это движение времени. А вот возраста не ощущаю. Я всё тот же, что улыбался грифу гитары на фотографии университетских времён, присланной мне по электронной почте Серёгой Чекалиным девять лет назад – пятьдесят лет добиралась. И каждый раз, заглянув в зеркало, удивляюсь, видя там жёсткую патрицианскую физиономию, изборождённую следами событий, сделавших её жёсткой. Короткая седая борода, граничащая в сущности своей с двухнедельной щетиной, скрывает часть этих следов, делая общение людей со мной относительно комфортным. Считанные разы в ходе развития биографии я по необходимости бороду сбривал, и когда в таком виде входил в какое-нибудь присутственное место, люди в большинстве своём дергались, порываясь встать. Или вставали. А с бородой я довольно мягкий и плюшевый. Тело – в относительном порядке и даже сохранило что-то от былых благородных пропорций. То есть, модель моей личности в сегодняшнем состоянии такова. Сфера, покрытая мягкой и тёплой шкуркой, слегка потрёпанной, но все ещё мохнатой. Под шкуркой – слой субстанции, похожей на «сырую» резину и предназначенной для быстрого затягивания, залечивания повреждений. Дальше следует гладкая блестящая сфера из танковой броневой стали. И вблизи центра этой принципиально неуязвимой сферы комфортно ютится «Я», которому абсолютно пофиг все неугодные ему воздействия и вообще события. Оно, это «Я», живёт в режиме полёта кондора, и с этой высоты многое видит по-другому в сравнении с видением другими людьми, да и собой значительно более ранним.
Я выполнил сегодняшнюю утреннюю часть ежедневной программы – написал около пяти страниц очень важной для меня книги «Психофизиология математики. Математика психологии». Вроде бы я теперь понимаю, откуда взялась математика. И хочу, чтобы другие тоже поняли трогательно простую канву нашего внутреннего мира и примирились с этой простотой. А ещё написал две страницы фантастической повести, в соответствии с пожеланиями читателей продолжающей написанную семь лет назад «Что там, во времени?». Поэтому теперь имею полное право передохнуть, подумать о себе, любимом. Потом нарезать букет из сирени и бульденежа, чтобы сентиментально создать в домике вид и запах времён детства и юности. Память позволяет мне, когда хочется, бывать там. Так сказать, параллельно сегодняшнему бытию.
Передохнуть лучше всего вот так, сидя на террасе, со стаканом собственного вина из аронии прошлогоднего урожая, твёрдым сыром и смесью орехов. Я не собираюсь ничего итожить, но очень хочется понять, насколько закономерно я оказался здесь и теперь. Насколько осмысленна прожитая часть моей жизни и насколько можно считать её успешной. И счастлив ли я в действительности. Необычная память – даже не знаю, счастье это или наказание – позволяет в цвете, вкусе и запахе не просто восстановить, а и пережить заново, иногда даже ещё эмоциональнее, чем было в реальности, практически любое событие предыдущих лет, начиная с дошкольного детства.
После всех личностных университетских подвигов и потрясений я, с опозданием на полгода по сравнению с однокурсниками, всё же получил диплом. Вот в это же время года, жарким июньским днём. И отправился, как тогда водилось, по распределению, в родные места, в Алма-Ату. Так назывался нынешний город Алматы, бывший тогда столицей Казахстана. Самостоятельная жизнь, оторванная от родственников разладом университетских времён, быстро вошла в русло, типичное для этой эпохи. Попытки хоть что-то научное поделать утром и днём, встречи со старыми и новыми друзьями и, главное, подругами, вечером под знаменитый портвейн номер двенадцать с медалями и оголтелую скоротечную любовь ко всему, что изящно двигалось и хотя бы немного разговаривало. Слава Богу, который лишил меня такого важного для обсуждения мужчинами качества, как наличие похмелья наутро. Каждое утро начиналось так же, как и предыдущее, и вело к такому же вечеру, что и предыдущий. Направление научной деятельности было новым для меня, к тому же, по роду менталитета и местных традиций, достаточно бесперспективным. И никакого отношения не имело к росту кристаллов, полюбившемуся мне ввиду единственно приобретённого опыта. А уж о каком-то там перовските и говорить нечего. И к концу первого же года такой жизни и, с позволения сказать, работы мне стало страшно. За своё профессиональное будущее, личную жизнь, эмоциональное состояние да и, наконец, здоровье. А ведь у меня по всем этим поводам были пусть размытые, но устойчивые представления. И я хотел хорошего будущего и не хотел плохого.