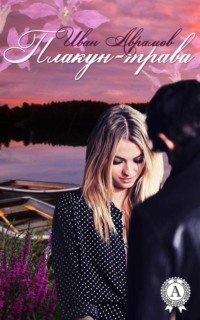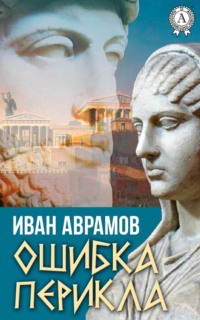Полная версия
Русалочье море
Сеть была с некрупной ячеей, на камбалу. Харабуга приволок ее с берега утром, раздосадованный тем, что оказалась пустой, – не повезло, вишь. Сеть еще оставалась влажной, пахла морем и рыбой, вдвоем они ее аккуратно расстелили на травке за сарайчиком. Здесь круглились несколько кустов черной смородины, источавшей нежный аромат цветения, на желтых букетиках, прятавших сладость, копошились пчелы, собрав пыльцу, возносились с мерным жужжанием. На бельевой веревке подвешены были вязки бычков, недавно вынутых из рассола и вымоченных в чистой воде: на воздухе они протряхли, подсушились, выпустив из брюха янтарные, где прозрачные, где мутноватые, пузырьки жира.
Собрались идти в дом, чтобы подробнее поговорить о работе, как вдруг старый Харабуга, придержав за рукав Доната, сурово предупредил:
– С девкой не балуй. Ежели что случится, не прощу.
– Бог с тобой, Пантелеич, – оторопел, неудержимо краснея, Донат, чувствуя себя обиженным и одновременно, впрочем, этим словам радуясь. – Или я бессовестный какой?
– Знаю, что говорю, – так же сурово и уверенно заключил Леонид Пантелеевич и внезапно помягчел: – Такой, брат, девки во всей округе не сыщешь. Если не понял, так поймешь.
И началось житье Доната в этой хате, одиноко стоящей на взморье, между степью и водой, привычно подставляющей саманные свои бока всем, прилетавшим отовсюду ветрам – и штормовым, с крепкой морской солью, и суховейным, сжигающим раскаленным дыханием и злаки, и упорные степные былки, привыкшие обходиться малой влагой. Лелеял тогда Донат мечты о счастье. Да сколько не жил на белом свете, счастье от него ускользало, как ускользает красная рыба из порванной сети.
Глава II. Спор
Любил Донат эту свою старую лодку, облитую смолой давних лет, с высоковатой, не то, что у теперешних «форелек» из фанеры или дюралевых «прогрессов», да и широкой кормой, неплоским днищем; на неуклюжем с виду баркасе выгребал он и в самый лютый шторм, когда море, тряся чубами бурунов, седело от ярости и не раз по спине, и без того продрогшей, явственно проскакивал холодок – каюк, хана, не выберешься из этой соленой круговерти. Азовская волна, хоть и короткая, и невысокая – поднимается всего на метр-полтора, зато крутая, как родной красноглинистый обрыв, в котором Караюрий вырубил лесенки к морю. Волна эта плоскодонку, например, опрокинет запросто, если подставишь неосторожно борт под ее бешеный удар.
Тяжел баркасец, да надежен. Посудину такую тащили, кряхтя, напружив всю силу, волоком по вязкому песку обычно четверо дюжих мужиков, Донат же управлялся с нею один, а как – никому то ведомо не было. Силой, конечно, Бог наделил его редкой: однажды, по молодости, погорячился, сцепил руку в споре с тем же Яннакиевым, что понесет плоскодонку (она легче, чем баркас, но тоже не перышко) сам, без всякой помощи шагов тридцать, не меньше, и руки их разбил кирпичным ребром ладони Леонид Пантелеевич, с сожалением глянув на своего жильца, в то время как Яннакиев прятал ухмылку в уголках рта, хотя, кажется, уголков этих самых у него и не существовало, потому что щеки на узком и длинном, как кувшин, лице были до того втянуты, притиснуты к зубам, что рот округлился, как куриная мокрая гузка.
Лодку поднимали вчетвером, или даже вшестером, на весу ее не держали, а тотчас подали на широко расставленные руки поднырнувшего под нее Караюрия – он попросил только, чтобы сразу не отпускали, а подержали бы, покуда не найдет равновесные точки; в то мгновение, когда вся тяжесть легла на него одного, Донат почувствовал, как страшно давит плоскодонка, и подумал, что, вполне возможно, спор он проиграет. Идти надо было осторожно, чтобы лодка не покачнулась, не перевесилась ни вперед, ни назад, тогда все, ее уже не выравняешь, не удержишь – рухнет на песок. Донат шел, опасливо передвигая налившиеся свинцом ноги, прислушиваясь, как зреет, набухает боль в суставах, как груз будто выламывает плечи. Первые шаги нарочито не считал, настраивая себя на долгий и выматывающий путь, зато, весело ощерив зубы, шаги Донатовы считал Яннакиев, делая это охотно и громко, к каждой очередной цифре присовокупляя бессовестную подначку:
– Четыре… Ты, Донат, послушай меня, шаг укорачивай до воробьиного поскока, так быстрее донесешь. Шесть!.. Один, помню, тоже с кем-то поспорил и, по-моему, тащил эту же лодочку, так говорят, через полгода он умер. Представляешь, даже памятника не поставили. Жаль, хороший был человек…
Донат старался не обращать внимания на издевку, переводя слух на гомон чаек, бестолково носившихся над морем, однако от голоса Яннакиева некуда было деться, он, как сверлом, дырявил уши, и скоро от одного его звука Караюрий занервничал, в нем крепла, закипала злость.
– Тринадцать… И охота же тебе, парень, надрываться. Инвалидом станешь, грыжу заработаешь, Павлина на тебя и не посмотрит, – здесь Яннакиев понизил голос, чтобы слов этих не услыхал Леонид Пантелеевич и другие рыбаки, шедшие следом. Последняя шпилька, видно, так понравилась ему, что он тихо, мелко засмеялся. Каким-то странным был этот смех, тонкий, как у бабы; главная же его особенность состояла в том, что Яннакиев как бы втягивал смех в себя, боясь его расплескать – так обыкновенно смеется послеоперационная больная, которой разрезали живот, и она, конечно, опасается потревожить рану.
– Ты, Дмитрий, Павлину не трогай, – по выдоху затрачивая на каждое слово и косясь на Яннакиева злым голубым глазом, посоветовал Донат. – Подумай лучше, как будешь рассчитываться после проигрыша.
– Девятнадцать… Ха-а, – пренебрежительно отозвался Яннакиев, уже заметно волнуясь: чем черт не шутит, а вдруг Донат выиграет спор. – На том свете угольками рассчитаемся.
– Угольки тебе пригодятся больше, вон какой зад отъел, – угрюмо сказал Донат. Теперь, когда он пошел на третий десяток шагов, сила его будто удвоилась, тяжесть, хоть и не стало ее меньше, уже не ломала костей.
Яннакиев же сник, как волна, ударившаяся в берег, и, потеряв запал, смирно откатившаяся назад, шаги считал без подначек, затем и совсем замолк, раздраженно пятная песок сочными плевками. Леонид Пантелеевич и другие заторопились, чтобы вовремя принять лодку у Доната, и тот краем глаза поймал на лице старика тщетно подавляемую радостную ухмылку.
– Тридцать! – торжественно крикнул Маврик, Донат знал, что об окончании спора возвестит именно он. Все посмотрели на Яннакиева, зарозовевшего от досады. Донат, впрочем, не остановился, ступая мерно и равнодушно, как вол, привыкший к возу, нес плоскодонку дальше и дальше, отдав ее на готовно подставленные руки только после сорокового шага. Он остался без лодки, но и без рук тоже, руки были невесомыми и жили словно отдельно от тела.
Донат немного постоял, отходя, потом лег на песок и, блаженствуя, всецело отдался покою. Больше всех его победе радовался Маврик, впрочем, если бы выиграл Яннакиев, он тоже нисколечко бы не огорчился. Маврик был короткий, непомерно широкий парень лет двадцати трех, и сейчас в волнении вертел головой в разные стороны, что вызывало удивление, потому как шея у Маврика вовсе не прослеживалась, а голова была посажена на плечи, как яблоко на стакан. Маврик ощущал душевный подъем потому, что любил выпить, он пил каждый день, опохмеляясь часа в три утра, перед самым выходом в море.
Обычно, когда бригада собиралась устроить сабантуйчик, гонцом и добытчиком отряжала Маврика, с одной стороны, как самого молодого, ну, а с другой, что не менее важно, как наиболее заинтересованного в предстоящем событии человека. Нынче же Маврик был удовлетворен тем, что все заботы возьмет на себя Яннакиев, – человек, проигравший спор.
– Три литра водки, – напомнил он Дмитрию. – Дуй, дорогой, в рыбкооп, не томи душу. С закуской не жмись – не вино ж пить будем.
– Заткнулся бы, пропойца, – окрысился Яннакиев. – Тебе б только глаза залить.
– А с Донатом вперед не тягайся, – не удержался Маврик, чтобы не подколоть, чем еще больше озлил Дмитрия, заторопившегося, однако, в село.
Яннакиев расстарался на славу. Где-то раздобыл добрый кус сала, облепленного крупными зернинами соли, с багровым мясным верхом, шмат свиного окорока, нашпигованного чесноком, перцем и лавровым листом, принес белобрюхих огурцов, алых, как кровь, помидоров да еще балыку собственного, похвастался, изготовления – севрюжье мясо, желтоватое на брюшине, дальше густо краснело, влажно исходя жиром. Все это разложили на расстеленном мешке, сошедшем за скатерку.
– Кто это, интересно, в селе такой куркуль, что у него в кладовке и сало, нате пожалуйста, и окорок? Скажи, Митя, в какой хате имеется такая богатая кладовка? – искренне полюбопытствовал Маврик, не в силах оторвать глаз от неслыханно богатого, сравнимого разве что с довоенным, угощения.
– Много будешь знать, скоро состаришься, – довольный произведенным эффектом, отделался шуткой Яннакиев.
Разлили по полному стакану. Леонид Пантелеевич поморщился, счел нужным предупредить:
– Этот один и выпью. Дальше, ребятки, не упрашивайте. Ну, за все лучшее.
– Лучшее – это когда хорошо живешь, ни в чем не нуждаешься, держишь хвост пистолетом. А что дает эту независимость, кто знает? – Яннакиев, опрокинувший водку одним махом, совал в требовательно округлившийся рот огурец, прокусывая его острыми зубами и оглядывая всех весело и дружелюбно, как приветливый хозяин, накрывший щедро стол и испытывающий от этого законную гордость.
– Кружечка вина, – пошутил Маврик. – Выпьешь и чувствуешь себя человеком. Смелости прибавляется, а добрым таким становишься, что хочется всех целовать и обнимать. Почему пьем? Потому что мягчеем, душой отходим.
– Ах ты, злыдень, – Яннакиев посмотрел на Маврика ласково, словно отец, жалеющий непутевого, говорящего глупости сына. – Сейчас задницей светишь, таким, верно, и помрешь, если не возьмешься за ум. Если не позаботишься, чтобы люди называли тебя по имени-отчеству. А жизнь в кулак берут по-разному: кто грамотой, образованием, кто властью – спит и видит, как бы до нее дорваться, кого родственничек могутный посадит на хлебное место, а кто собственным умишком пораскинет, как бы ему самостоятельно подобраться к вожделенному благополучию. Я, например, университетов уже не закончу – опоздал, и председателем райисполкома или директором завода мне не быть. Хотя «Казбек» курить хочу. И буду!.. Война, конечно, повыжимала из народа соки, если не хуже, но немца одолели, и жизнь снова поворачивает на свое, а она, милый Маврик, как море под ветром – кто на гребне, а кого и волной накрывает, так вот, этим самым, кто барахтается и захлебывается, как кутенок, я лично быть не желаю.
– А отчего так: один на гребне, а другой тонет? – уже серьезно спрашивал Маврик, которого слова Яннакиева взволновали и задели. – Все люди любят жизнь одинаково и у каждого своя, пусть не такая, как у соседа, но все-таки голова, и сердце, и руки…
– Плохо, стало быть, плавает. Не так силен, не так умен. Да я, кажется, уже толковал про это… Слушай, Маврик, а ты бы смог, к примеру, угостить братву так, как я вот сегодня?
– Ну, если б продал все, что есть в доме, смог бы, – опять повеселел Маврик, разливая по второй с величайшей аккуратностью и точностью. Потянулся плеснуть и старику Харабуге, но тот показал глазами на перевернутый вверх дном стакан: баста, мол.
– То-то и оно, браток, – заключил Яннакиев, вгрызаясь прекрасными белыми зубами в сочащееся жиром севрюжье мясо и с треском отдирая его от голубовато-серой, в крупных костяных звездах шкуры. – Хата у тебя, нет слов, знатная. Топчан деревянный, который дедушка сколотил, когда взял в жены бабушку, выставишь на продажу, что ли?
– За твою удачу, Дмитрий Николаевич! Греби, как курица, под себя обеими лапами, только изредка отряхивайся, а то от пыли почернеешь, а это нехорошо, можешь и не отмыться, – Маврик, крякнув, отер короткопалой ладонью губы и, демонстративно выбрав самый крупный кусок балыка, саркастически заметил: – Ценю твою, Митя, науку. Стану крепким хозяином, как ты. Завтра, может, нападет на меня куриная слепота, ненароком, гляди, спутаю собственный улов с артельным, пару севрюжек с брюхом, полным икрой, запрячу в мешок, да и судаком не побрезгую – кто в селе такую рыбу не купит? И цену дадут такую, какую заломлю. А в городе – там вообще с руками оторвут. И никто не настучит, на судаке ведь не шлепают артельную печать…
– Ты, сукин сын, говори, да не заговаривайся, – Яннакиев, забыв утереть с подбородка блестящий жир, прижал Маврика тяжелым, угрожающим взглядом. Маврик, забубенная голова, не испугался, лениво произнес:
– Чего ты, Митя, всполошился, как курица на насесте, среди ночи разбуженная? На воре шапка горит, а?
Яннакиев, при общем молчании, привстал, занеся назад руку, надвинулся на Маврика. Донат легонько перехватил его руку и, следя глазами за чайкой, присевшей на мгновение на зеленую воду, тихо, раздумчиво спросил:
– Это ты, Дмитрий, на полном серьезе, что ли, насчет закона моря: кто на гребне, а кто тонет? Можно ведь рассудить и по-другому. Ну, хорошо, у кого-то силенок не хватает, идет он на дно, хочет воздуху глотнуть, а захлебывается соленой водой. Жизнь – как море под ветром, это ты правильно заметил, с одной только разницей, что море, как ни крути, не верти, тоже не без людей. И уж найдутся такие, что постараются не дать утонуть ближнему. Ты хвастаешься, что умеешь жить, вон какой достархан обеспечил, и… Понял я, уразумел, каким образом собираешься ты жизнь в кулак зажать. Хочешь, байку одну расскажу?
Маврик вышиб ладонью пробку, привычно смахнул с горлышка сургучевые крошки, подмигнул Яннакиеву как ни в чем не бывало:
– Подставляй посуду, под байку надо выпить.
Донат лег на спину, держа голову, как на подушке, на сцепленных сзади руках и, уставясь в небо, которое закат уже прострочил красноватыми нитками, негромко заговорил:
– Байка, хлопцы, такая… Жила в одном селе старуха, муж ее помер в молодости, а детки во младенчестве. Кончается бабкин век, и никому она не нужна, как сломанное весло. Одиночество – это для человека горше всего, и вот, значит, болеет она, за собой ухаживать не в силах. Родичи, какие были, от бабки отказались, на кой черт нам лишняя обуза? Однако слушок по деревне прошел, что у старухи есть деньги, много деньжат – одна ведь жила, кое-что прикопила, бабки, известное дело, народ прижимистый. Откуда, из чьих уст вышел слух, не знаю, может, старуха сама и пустила. И кто, дескать, ее досмотрит, тому она свое богатство и откажет. Прибежала к ней соседка, ластится к старухе, приглашает: «Идем, бабушка, к нам, как-нибудь худо-бедно проживем, тебя досмотрим, не сомневайся». Согласилась та. «Спасибо, – говорит, – доченька, труды твои напрасными не останутся. Перед смертью, дочка, открою тебе что-то очень важное. Видит Бог, не пожалеешь». Прожила она в семье соседки год ли, два, ухаживала та за ней неплохо, однако, чего греха таить, так и ждала, когда за приживалкой явится смерть с окаянной своей косой. Никуда от той, понятно, не денешься, пришел и старухе час. Молодуха и в поле уж носа не кажет, от бабушки не отлучается, боится, вдруг помрет в ее отсутствие и тайну заветную в могилу с собой унесет. Осталось, наконец, сердечной жизни на несколько вздохов, подзывает она хозяйку и говорит: «Спасибо тебе, доченька, за заботу и труды, они тебе зачтутся перед Господом нашим». Помнишь, я тебе посулила, что перед смертью открою что-то очень важное? Наклонись-ка, на ухо скажу».
– Что, что она сказала? – не выдержал Маврик, весь подаваясь к рассказчику и еще глубже втягивая голову в могучие свои плечи.
– Ох и нетерпеливый, прямо, как та молодуха, – буркнул Леонид Пантелеевич.
«И говорит бабушка на ухо хозяйке, а та от нетерпения и счастья дрожит вся, как в лихорадке: «Слушай, дочка, меня внимательно и запоминай. Когда сядешь шить, то продень в иголку нитку, а на нитке не забудь сделать узелок. Не забудь, поняла?» С тем и отошла».
– Мудро, мудро отблагодарила старуха, – захохотал Маврик, значительно поглядывая на Яннакиева, которого эти нахальные взгляды раздражали, как быка, опасливо косящегося на неотступно летающего вокруг да около и намерившегося запустить под шерсть свое жало овода. Дмитрий и впрямь, посмотрев на Караюрия, набычился, приготовясь спорить; щеки его втянулись еще больше, губы сжались.
– А я думаю, что она просто неблагодарная тварь, эта старая стерва, – сказал он. – Люди за ней горшки носили, а она им кукиш с маслом под нос. На меня, так я этой старушенции не дал бы спокойно околеть, точно бы пристукнул.
– Добро, Митя, из корысти не делают, не уразумел, что ли? А деньги – они как пыль на ветру, все не соберешь, как не мочи ладонь рыбьим клеем. Так что смотри. А Маврик, между прочим, кое в чем прав, – высказался и Леонид Пантелеевич, и Яннакиев не осмелился перечить старому рыбаку, не оттого, что с ним согласился, а скорее из уважения к человеку, который научил его, Митю, вязать сети, располагать ставники в верном месте, правильно их «подрезать» и многому, многому другому, что надо знать и уметь на спокойной и неспокойной воде.
Глава III. Хозяйка водяных змей
Старик Харабуга подбросил Доната к родному обрыву и, сказав: «Иди обедай», направил баркас к рыбокоптильне, чтобы выгрузить утренний улов – они взяли много разнорыбицы. Есть Донату еще не хотелось, и он, передумав идти домой, разделся, всласть понырял – июнь был необыкновенно знойным и тело встречало прохладу лишь на самом дне. Он купался в том месте, напротив которого росли на обрыве старые приземистые акации и куда не доплывали, а если посуху, то не доползали змеи, которых он боялся. «Почему они здесь водятся и почему их так много?» – спросил он как-то у Павлины, и та, пожав плечами, ответила: «Не знаю. Наверное, потому, что непуганые. Они к нам с отцом привыкли и догадываются, что мы их любим». «Но как можно любить этих… гадюк?» – удивился Донат, и она снова пожала плечами: «Не знаю. Мы с папой к ним привыкли. Эти водяные змеи здесь были всегда. Они нас узнают». И, подумав, успокоила: «Ты их не бойся. Они безвредные».
И все же Донат не мог пересилить отвращения к этим водяным тварям, а Леонид Пантелеевич, посмеиваясь снисходительно над этой его боязнью, с природной своей деликатностью всегда, когда они находились в море вдвоем, причаливал баркас метрах в десяти-двадцати от этого гадючьего заповедника.
Так долго он, пожалуй, никогда и не купался, от бесконечных погружений под воду даже притомился; выйдя на берег, упал на горячий песок, всей кожей ощущая острое, мелкое покалывание раскаленных песчинок. Он лежал под самым обрывом в полукружье, образованном двумя выступами, почти касаясь их головой и ногами, и ему хорошо была видна та полоска прибоя, подле которой грелись на солнце водяные змеи; самого же Доната увидеть оттуда было трудно, и он подумал, что это хорошо, а то, чего доброго, еще приползут сюда. Он утомленно смежил мокрые ресницы и все равно видел прозрачную, колеблющуюся аловато-жаркую, с вспыхивающими золотистыми искрами полутьму, рождаемую пронизанными солнцем веками, эта полутьма расслабляла и усыпляла, и он всматривался в нее до тех пор, пока не оказался в странном дремотном полузабытье, скрывавшем, несомненно, какую-то древнюю тайну, потому что ему, чувствующему сквозь дрему, как горячее, разомлевшее тело охлаждает, ласково забираясь под мышки, ветерок, как убаюкивает монотонный шелест моря, грезилось, что все это с ним когда-то давным-давно уже было, и что он когда-то так же лежал, сильный, бронзовый, молодой, и так же бесподобно пахла легкой солью высыхающая, или уже высохшая на теле вода. Он уснул и спал долго и крепко, а потом внезапно проснулся, словно что-то стукнуло ему в сердце. Он открыл глаза и сначала ничего не смог увидеть, точно с яркого свету попал в темную комнату, но, когда глаза освоились, посмотрел туда, где грелись змеи – не угрожают ли они ему, и неожиданно увидел Павлину, осторожно ступающую среди черных, лаково-блестящих, шевелящихся змей, и у нее была какая-то танцующая, невиданная им ранее походка. Она высоко поднимала босые ступни и, описывая ими в воздухе легкие полукруги, ставила туда, где был чистый белый песок, а змейки, большие взрослые и молодые, еще не успевшие вытянуться во всю отмеренную им природой длину, извивались вокруг, приподнимались, зачарованно вертя головами, и так же зачарованно смотрел на все это Донат. Одни потом спокойно сворачивались в клубок, другие провожали ее до самой воды, а Павлина, дойдя до влажного, вылизанного волной песка, попробовала ногой воду и остановилась, и замерла. Она стояла так несколько мгновений, потом, приподняв края подола, стремительно потянула платье вверх и, крутнув головой, сняла его, отбросив в сторону, и Донат перестал дышать, потому что под платьем у нее ничего больше не было, и она стояла всего в десяти шагах нагая, и он видел ее длинную тонкую шею, и спину с гладкими, округлыми, чуть выступающими лопатками, и руки, несильные и узкие, и крупный выпуклый зад с еле уловимым загаром, она, видно, не впервой так, нагой купалась в море, и стройные, плотно прижатые друг к другу ноги. Донат тихонько, мучительно перевел дыхание, сглотнув сухим ртом, но ему по-прежнему было трудно дышать – что-то звериное, горячими толчками погнавшее кровь, нарастало, крепло, и не было сил избавиться от его власти, прислушаться к трезвой, но мимолетной мысли, что нехорошо так смотреть на нее – исподтишка, словно из засады, ведь она не знает, что он неотрывно за ней наблюдает. Тогда он горячечно подумал, что Павлина должна стать и станет его женой. Она постояла еще секунду, лениво, как бы нехотя вошла в воду, вздрагивая ягодицами, и тут будто кто толкнул ее в спину – она вприпрыжку побежала вперед, разбрасывая вокруг себя брызги, миновав мелководье, оттолкнулась ото дна и легко, в одно касание, как перо птицы, легла на воду и поплыла, красиво и мощно работая руками, и змеи, четыре или пять, то пропадая, то появляясь над зеленой гладью, сначала сопровождали ее, затем отстали, и Донат подумал, что Павлина – колдунья. Заплыла колдунья далеко, виднелась одна ее голова – одинокий цветущий подсолнух в зеленом поле. Она купалась тоже долго, и за третьей мелью, на глубине, раскинула крестом руки, покачиваясь на одном месте, отдыхая. Донат по-прежнему следил за ней. Песок под ним остыл, ему хотелось сорваться, побежать, поплыть, догнать ее и там, в море, чистом, спокойном и пустынном, поцеловать в теплые соленые губы. Он хотел сделать это и знал, что этого не сделает.
Потом Павлина направилась к берегу, уже тихо, даже показалось – безучастно, а ему хотелось вжаться в песок, скрыться, провалиться сквозь этот берег, и он решил передвинуться, надежнее спрятаться в своем укрытии, но побоялся – а вдруг она заметит. Впрочем, теперь, когда она плыла назад, то вполне могла его обнаружить, оттуда, с моря, он, наверное, как на ладони. На мелководье Павлина стала на ноги, пошла шагом, и Донат опять смотрел на нее, на ее груди, по-девичьи твердые, еще не умеющие клониться вниз, в крупных сверкающих каплях воды. Павлина выходила с опущенной головой, и ему почудилось, что в ней что-то изменилось. На берегу она легко подхватила платье и, осторожно ступая между змеями, которых жара разморила – ни одна из них вслед уже не поползла, заторопилась к ступенькам в обрыве. Немного погодя он услышал, как наверху прошелестели по траве ее шаги.
Домой Донату идти расхотелось, он забрел далеко в степь, и здесь глазу открывалась своя, иная, красота, здесь все было обрызгано желтым дождем сурепки, и тонко, томительно пахла полевая березка, сузив обвянувшие на солнцепеке белые и розовые раструбы цветков, напоминавших маленькие репродукторы, качались на ветру жилистые, с крепкой стебляной нитью и оттого трудно поддающиеся разрыву кустики цикория с его обесцвеченно-голубыми глазами, упористо, с панской важностью стояли широколистые, колючие, плотные репейники с малиновыми пушистыми бутонами, и цепко держался за землю вездесущий мышей, кивая направо и налево сизоватыми метелками. Май не пролился ни одним дождем, не было его и теперь, хотя июнь подходил к середине, и дождя ждали все, кто жил на этой земле и с такими трудами и тяготами засеял первое послевоенное поле; зелень пока, правда, держалась, хотя и изнемогала под безжалостным суховейным дыханием, приносившимся с юга и востока с проклятым постоянством.
Донат дошел до невысокого, осевшего под тяжестью веков кургана, у подножия которого начиналась Камышеватая балка, топкая в осеннюю распутицу, здесь вечно застревали работяги-«полуторки», и шоферы матерились до тех пор, пока не приходил на выручку гусеничный трактор; летом же балка смотрел на мир круглыми, грязновато-невзрачными бельмами солончаков, округ которых низко щетинилась чахлая травка, наверное, самая живучая и неприхотливая из всех, что растет в степи. На кургане Караюрий упал лицом в землю и стал вслушиваться, как исколотая птичьими криками нежно, коротко позванивает, потрескивает даль, как она музыкально, певуче булькает, лопается, точно где-то рядом, на сковородке вскипает подсолнечное масло. Донату думалось хорошо и сладко, и по большей части уверенно, но иногда уверенность пропадала, как баркас, дошедший до той линии, где море соединяется с небом, и появлялся страх, особый, ни на какой другой не похожий – когда после долгого ожидания нашел то, что искал, и это долгожданное, выстраданное, вымечтанное вдруг может выпорхнуть из рук, исчезнуть, растаять.