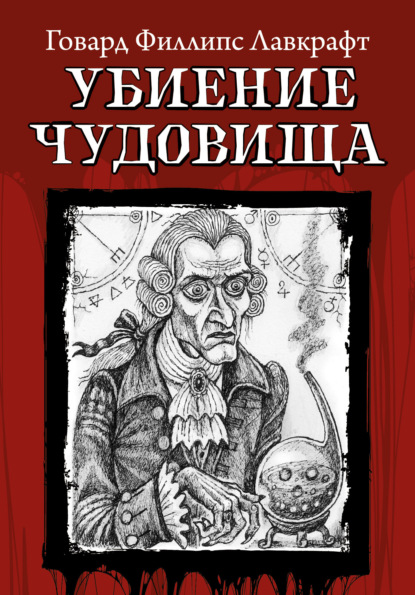Полная версия
Страж мертвеца
Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий и любопытный готический in quarto служебник одной забытой церкви – Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae[5].
Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на две недели (до окончательного погребения) в одном из многочисленных склепов здания. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду его побудительной причины. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность.
По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели (он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущенном воздухе), был маленьким сырым погребом, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в средневековые времена он служил для каких-нибудь тайных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный визг.
Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Поразительное сходство брата и сестры бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, отличительные во всех вообще каталептических болезнях: слабый румянец на щеках и ту особенную томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее.
Прошло несколько унылых дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменились. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату бесцельными торопливыми нетвердыми шагами. Бледное лицо его приняло, если возможно, еще более зловещий оттенок, но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие звуки: в нем слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам сумасшествия, замечая, что он по целым часам сидит недвижимо, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня. Я чувствовал, что влияние его суеверных грез сказывается и на мне медленно, но неотразимо.
На седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенною силой.
Проходил час за часом, но сон бежал от глаз моих. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение, старался убедить себя, что оно всецело или по крайней мере в значительной степени зависит от мрачной обстановки: темных, ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все было тщетно. Неодолимый страх глубже и глубже проникал мне в душу, и наконец демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался, сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я кое-как надел платье (чувствуя, что в эту ночь не придется спать) и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперед по комнате.
Сделав два-три оборота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его – очевидно, он был в припадке истерии. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что даже обрадовался его приходу.
– А, вы еще не видали этого? – сказал он отрывисто после довольно продолжительного молчания. – Не видали? Так вот посмотрите.
С этими словами он поставил лампу в сторонку и, подбежав к окну, разом распахнул его.
Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, средоточие урагана приходилось как раз в усадьбе: ветер то и дело менялся; густые тучи, нависшие над замком (так низко, что казалось, будто они касаются башенок), мчались туда и сюда с неимоверной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние.
Несмотря на то что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла их своим блеском. Но с нижней поверхности туч и от всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывавшие постройку.
– Вы не должны, вы не будете смотреть на это! – сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием. – Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно: холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте; и так мы скоротаем эту ужасную ночь.
Книга, о которой я говорил, была «Mad Trist» сэра Ланселота Каннинга, но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку; ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать (история умственных расстройств представляет много подобных странностей). И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается, к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.
Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что его не пускают добром в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнит читатель, эта сцена описывается так:
«Этельред, который по природе был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку, за доски, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу».
Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось (впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения), будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланселота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и свиста бури. Я продолжал:
«Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуею дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым зáмком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью:
Кто в дверь сию войдет – тот зáмок покорит;
Дракона кто убьет, получит славный щит.
Тогда Этельред замахнулся палицей и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука».
Тут я снова остановился – на этот раз с чувством ужаса и изумления, так как услышал совершенно ясно (хотя и не мог разобрать, в каком именно направлении) слабый, отдаленный, не резкий, протяжный, визгливый звук, совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона.
Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть лица его, хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова опустилась на грудь, однако он не спал: я видел в профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланселота:
«Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит; однако последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном».
Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук, точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он как будто окоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но, когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по телу его, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и понял наконец его безумную речь.
– Не слышу?.. Да, я слышу… Я слышал. Долго… долго… долго… Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел – о, горе мне, несчастному! – не смел… не смел сказать! Мы похоронили ее живою! Не говорил ли я, что мои чувства изощренны? Теперь говорю вам, что я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их… Много, много дней тому назад… Но не смел… не смел сказать. А теперь… Сейчас… Этельред… Ха, ха!.. Треск двери в приюте отшельника, предсмертный крик дракона, звон щита! Скажите лучше: треск гроба, визг железной двери и судорожная борьба ее в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений сердца ее? Безумец! – тут он вскочил в бешенстве и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетала вместе с этим криком: – Безумец! Говорю вам, что она стоит теперь за дверями!
И, как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания, высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра – но в дверях стояла высокая, одетая саваном фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была залита кровью, изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге; потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней, агонии увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее.
Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет; я обернулся посмотреть, откуда он, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома. На моих глазах трещина быстро расширилась; налетел сильный порыв урагана; полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами; мощные стены распались и рухнули; раздался гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Дома Эшер.
Перевод М. Энгельгардта, 1896 г.

Эдгар Аллан По
Лягушонок

Я в жизни своей не знавал такого шутника, как этот король. Он, кажется, только и жил для шуток. Рассказать забавную историю, и рассказать ее хорошо, – было вернейшим способом заслужить его милость. Оттого и случилось, что все его семь министров славились как отменные шуты. По примеру своего короля, они были крупные, грузные, жирные люди и неподражаемые шутники. Толстеют ли люди от шуток или сама толщина располагает к шутке – этого я никогда не мог узнать доподлинно, но, во всяком случае, худощавый шутник – rara avis in terris[6].
Король не особенно заботился об утонченности или, как он выражался, о «духе» остроумия. В шутке ему нравилась главным образом широта, и ради нее он готов был пожертвовать глубиною. Он предпочел бы «Гаргантюа» Рабле «Задигу» Вольтера, и, в общем, ему больше нравились смешные выходки, чем словесные остроты.
В эпоху, к которой относится мой рассказ, профессиональные шуты еще не перевелись при дворах. В некоторых великих континентальных «державах» имелись придворные дураки, носившие пестрое платье и колпак с погремушками и обязанные отпускать остроты по первому требованию за объедки с королевского стола.
Разумеется, и наш король держал при своей особе дурака. Правду сказать, он чувствовал потребность в некоторой дозе глупости, хотя бы только в качестве противовеса к утомительной мудрости семи премудрых министров, не говоря уже о его собственной.
Однако его дурак – то есть профессиональный шут – был не только дурак. В глазах короля он имел тройную цену, потому что был и карлик, и калека. Карлики при тогдашних дворах были явлением столь же обычным, как и дураки, и многие короли не знали бы, как скоротать время (а время при дворе тянется томительнее, чем где-либо), не будь у них возможности посмеяться над шутом или карликом. Но, как я уже заметил, шутники в девяноста девяти случаях из ста тучны, пузаты и неповоротливы, – ввиду этого наш король немало радовался тому, что в лице Лягушонка (так звали шута) обладает тройным сокровищем.
Я не думаю, что имя Лягушонок было дано этому карлику восприемниками при крещении, вернее всего, оно было пожаловано ему – с общего согласия семи министров – за его неуменье ходить по-людски. Действительно, Лягушонок двигался как-то порывисто – не то ползком, не то прыжками; его походка возбуждала безграничное веселье и немало утешала короля, считавшегося при дворе красавцем, несмотря на огромное брюхо и природную одутловатость лица.
Но, хотя Лягушонок мог передвигаться по земле или по полу только с большим трудом, чудовищная сила, которой природа одарила его руки как бы в возмещение слабости нижних конечностей, позволяла ему проделывать изумительные штуки, когда можно было уцепиться за ветки или веревки или надо было куда-нибудь взобраться. В таких случаях он больше походил на белку или обезьянку, чем на лягушку.
Я не знаю хорошенько, откуда был родом Лягушонок. Во всяком случае, из какой-то варварской страны, о которой никто не слышал и далекой от двора нашего короля. Лягушонок и молодая девушка, почти такая же карлица, как он (но удивительно пропорционально сложенная и превосходная танцовщица), были оторваны от своих родных очагов и посланы в подарок королю одним из его непобедимых генералов.
Немудрено, что при таких обстоятельствах между двумя маленькими пленниками возникла тесная дружба. В самом деле, они вскоре сделались закадычными друзьями. Лягушонок, который, несмотря на свои шутки, отнюдь не пользовался популярностью, не мог оказать Трипетте больших услуг, но она благодаря своей грации и красоте пользовалась большим влиянием и всегда готова была пустить его в ход ради Лягушонка.
Однажды по случаю какого-то важного события – какого именно, не помню, – король решил устроить маскарад; а всякий раз, когда при нашем дворе устраивался маскарад или что-нибудь в этом роде, Лягушонку и Трипетте приходилось демонстрировать свои таланты. Лягушонок был очень изобретателен по части декораций, новых костюмов и масок, так что без его помощи решительно не могли обойтись.
Наступил вечер, назначенный для этого fete[7]. Роскошная зала была убрана, под надзором Трипетты, всевозможными эмблемами, способными придать eclat[8] маскараду. Весь двор томился в лихорадке ожидания.
О масках и костюмах всякий сам позаботился заранее. Многие приготовили их (в согласии с теми ролями, которые решили взять на себя) за неделю, за месяц; на этот счет ни у кого не было колебаний, кроме короля и семи министров. Почему они медлили, я не могу объяснить, – разве что для шутки, но, вернее, затруднялись придумать что-либо вследствие своей толщины. Однако время уходило, и в конце концов они послали за Лягушонком и Трипеттой.
Когда маленькие друзья явились на зов короля, он сидел со своими министрами в зале совета за бутылкой вина, но, казалось, был в очень дурном расположении духа. Он знал, что Лягушонок не любит вина, так как вино доводило бедного калеку почти до безумия, а безумие совсем не приятно. Но король любил подшутить и потому заставил Лягушонка (как выразилось его величество) «пить и веселиться».
– Поди сюда, Лягушонок, – сказал он, когда шут и его подруга вошли в комнату, – осуши этот стакан за здоровье своих отсутствующих друзей (Лягушонок вздохнул) и помоги нам своей изобретательностью. Нам нужны костюмы, костюмы, слышишь, малый, – что-нибудь новое, небывалое. Нам наскучило одно и то же. Ну же, пей! Вино прочистит тебе мозги.
Лягушонок попытался было ответить шуткой на любезности короля, но испытание оказалось слишком трудным. Был как раз день рождения бедного карлика, и приказание выпить за здоровье «отсутствующих друзей» вызвало слезы на его глазах. Тяжелые горькие капли закапали в кубок, когда с поклоном шут принял его из рук тирана.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Клика злодеев здесь долго пыткам народ обрекалаИ неповинную кровь, не насыщаясь, пила.Ныне отчизна свободна, ныне разрушен застенок,Смерть попирая, сюда входят и благо и жизнь (лат.).Перевод Е. Суриц
2
Предел, крайняя форма проявления чего-либо (лат.) – Прим. ред.
3
Его сердце – висящая лютня,Лишь дотронуться – она зазвучит.(Беранже)
(Здесь и далее по тексту – прим. переводчика.)
4
Ватсон, д-р Перенваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф. См. «Chemycal essays», vol. V.
5
Бдения по усопшим согласно хору магунтинской церкви (лат.). Перевод Норы Галь.
6
Редкая птица (лат.). Цитата из «Сатир» Ювенала, римского поэта-сатирика (60–127). (Здесь и далее по тексту – прим. переводчика.)
7
Праздник (франц.)
8
Блеск (франц.)