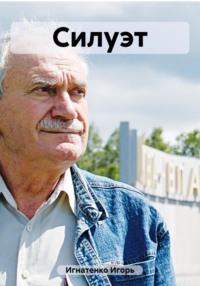Полная версия
Лента жизни. Том 2
– Че топчешься? – подтолкнул его сзади Дробя.
– Толян, я деньги потерял, – сведенными, сухими до горечи губами прошептал самому себе Ванька.
– Давай, двигай! – не расслышал его Дробухин. Ванька послушно приткнулся в спину к Лешке Селиванову. Он продолжал лихорадочно обыскивать фуфайку: может, в подкладку через дырку завалились проклятые рубли? Но подкладка была цела. Попалось несколько тыквенных семечек, осклизлых и никому сейчас не нужных. Даже залез зачем-то в карманы штанов, лишь бы оттянуть окончательный приговор – деньги потеряны. Конечно, случилось это, когда играли в «свинку» и после барахтались в снегу, устроив кучу-малу.
– Я щас! – обернулся он к Толяну.
И кинулся на улицу. В желтом свете лампочки остаток очереди пропустил его, словно он и впрямь уже купил хлеба и отправился домой.
На дороге лишь чернели котяхи. Здесь вряд ли он мог оброниться. Скорее всего, это случилось вон там, в примятом сугробе, куда его толкнул Дробя. Ванька упал на коленки, силясь разглядеть в потемках пропажу, потом начал разгребать сугроб голыми руками, всхлипывая и причитая:
– Ну, где же они? Покажитеся… Отыщитеся… Че я мамке скажу-у?..
Через несколько минут он понял, что если пропавшие рубли действительно и были здесь, то теперь он их своими руками закопал так, что и днем с огнем не сыщешь.
Ванька взвыл волчонком и неизвестно зачем побрел опять в магазин, ни на что не надеясь. Не идти же домой за мамкиными колотушками?
Его пропустили, чуя идущую от Ваньки горестную напряженность и заразительное отчаяние. Навстречу вывалились один за другим дружки. Борька, жуя довесок, поинтересовался:
– Не нашел?
Ребята сообразили, почему отлучился Ванька. Такая беда случалась порой кое у кого из приходивших за хлебом. Теперь утрата посетила и их компанию.
– Хлопцы, давайте копейки соберем, – предложил Лешка. Мальчишки стали скрести по карманам, выгребать сдачу. Набралось семьдесят шесть копеек – почти на полкилограмма черного хлеба. Ванька молча взял холодные монеты, сжал в кулак и прерывисто вздохнул. В груди даже клокотнуло что-то.
– Иди, – шепнул он еле слышно Лешке. – Я догоню…
Толкаться и доказывать, что он стоял впереди, Ванька не стал. Спешить было некуда, как не на что было и надеяться. Он провожал глазами каждого покупателя, следил, как продавщица смахивает с полки одну за другой буханки оставшегося хлеба, режет «мессером» самые крупные, крошит довески. У печки, где прислонился Ванька, было так тепло, так угревно, что не верилось в случившуюся беду. Все казалось сном, думалось: щипни себя сейчас покрепче – и проснешься с рублями в кармане. Ванька и руку приподнимал – щипнуть себе щеку, но тут же отдергивал, стыдясь людей. Утирал нос, шмыгал вполголоса. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», – припомнилась ему любимая поговорка покойной бабушки Степаниды. Она чаще всего повторяла ее, когда случалось наставлять чему-либо внука. Ста рублей у него и так не было, а друзья ушли, оставив сдачу. Пуще всего боялся теперь Ванька возвращаться домой с пустыми руками. Но на полке еще оставалось несколько буханок.
Наконец и последний покупатель – девчонка лет десяти, худенькая, с носиком-пуговкой и глазками-бусинками, Верка Золотарева с инкубаторной станции – взяла свой хлеб, спрятала в холщовую сумку и хлопнула дверью.
Клавка-продавщица смахивала с прилавка крошки большой чистой тряпкой в подставленную тарелку. Набралась порядочная жменя. Потом ссыпала крошки в пакетик, сунула под прилавок. Устало распрямилась, со стоном потянулась всем телом в синем, не первой свежести халате. Поправила на голове козьего грубого пуха шалюшку. «Наверное, для курей, – догадался Ванька. – Покормит хлебными крошками – яички снесут…»
– Ты чего тут у печки застрял? – заметила Клавка мальчишку. – Никак Крюков? Ну да… Ваня… А глаза чего на мокром месте? – приглядевшись внимательнее, спросила она грубоватым голосом, в котором, однако, почудились Ваньке обнадеживающие нотки. – Иди, иди сюда… Да оторвись ты от печки!
Мальчишка несмело подошел к прилавку и протянул молча тетке Клаве слипшиеся в кулаке монетки.
Как опытный следователь, тетка вмиг оценила ситуацию.
– Значит, посеял денежки? Отец зерно сеет, а ты рубли… На сколько тут у тебя выходит? – Она сочла монеты. Побрякала костяшками на счетах. – Четыреста семьдесят пять грамм выходит…
Точные цифры особенно смутили Ваньку и вновь повергли в состояние глубочайшего уныния. Очевидно, на его лице была написана вся картина переживаний. Тетка Клава ребром ладони подвинула по вылосненному до глянца прилавку Ванькины деньги.
– Разве на столько вашу семейку накормишь? Килограмм до ужина сметаете, небось… Она нагнулась под прилавок, достала черную дерматиновую сумку. Дернула замок-«молнию», заглянула туда, пошуровала внутри, принахмурилась.
– Вот же оглоеды! Мамкино горе. Все бы им играть… Нет на вас управы! – произнесла она в пространство, обращаясь не столько к Ваньке, сколько к кому-то вообще, кто откуда-то сверху, незримый, наблюдает за происходящим.
Потом тетка Клава достала из сумки буханку белого хлеба. На ее место положила буханку черного, предварительно взвесив и откромсав уголок до ровного килограмма.
– На, бери! – протянула она белый хлеб Ваньке. – Скажешь Ульяне Карповне, что я в долг дала. Завтра вернешь… Давай сумку.
Засунув в сумку хлеб и вручив его Ваньке, добавила напоследок:
– Отец пусть за ремень-то не хватается. Разве ваша вина, что впотьмах за хлебом ходить приходится?
– Спасибо, тетя Клава… – насмелился наконец Ванька произнести требуемые слова благодарности.
– Как учишься? – переменила вдруг тетка Клава тему. – В шестом или в седьмом?
– В шестом… На четверки, на пятерки, – ответил Ванька. Потом спохватился и добавил: – Пятерок больше. Я читать люблю…
– Эх, ты… читатель!..
Тетка Клава шумно вздохнула.
– Ну иди, иди. Мне закрывать надо. Мамке привет передай, не забудь. Мы с ней ведь одноклассницы были когда-то. Не чужие. Папке тоже поклон… хлеборобу-ударнику. Они ведь с моим Василием в одной бригаде работают, рoстят вот этот самый… – она мотнула головой в сторону опустевших хлебных полок.
Ванька благодарно засопел оттаявшим носом. Подхватил с прилавка свою сумку и потопал к выходу.
На улице в лицо ударил холодной снежной крупой еще сильнее покрепчавший утренний ветер. Восточная кромка неба просветлела слегка, и в этой белесой глубине стали тонуть и гаснуть одна за другой дрожавшие, словно тоже окончательно зазябли в космической стыни, звездные пригоршни.
Сегодня дома будет белый хлеб!
И Ванька кинулся догонять Лешку, хотя понимал, что вряд ли успеет. Слишком уж он задержался нынче в магазине.
2003
«Рацуха»
– Ребя! Айда вагонетки гонять! – заталкивая ополовиненную бутылку с молоком в сумку, первым подал идею Желéза.
– Чур, я бронепоезд! – заявил сразу же Дрoбя. Это значило, что Лешке, Ваньке и тому же Борьке Железниченко доставалась участь быть паровозами беляков, чья задача заключалась в том, чтобы настичь беглеца и, по возможности, сшибить его с рельсов.
В обеденный перерыв на «кирзухе» – кирпичном заводе – жизнь замирала. Штатные рабочие расходились по домам хлебать супы да борщи. Ну а летние подработчики, наскоро управившись со своими «сидоркaми», принесенными из дому, коротали полуденный час за различными забавами, которых при мальчишеском воображении с лихвой хватало на оставшиеся минут пятьдесят.
Вылазить на солнцепек из амбарного тенька не очень-то и хотелось. Хотя одеты все были на один манер, по-летнему. На головах – кепки-восьмиклинки, только у Лешки – тюбетейка с расписными вензелями. В амбарной прохладе головные уборы обычно сбрасывали на специально для того освобожденную от кирпичей полку стеллажа, куда ставили свои сумки с провизией. На загорелых дочерна телах – майки одинакового магазинного фасона, обесцвеченные тем же солнцем. О шароварах разговор особый. Черный сатин, из которого пошивались эти важнейшие предметы мальчишечьего туалета, украшали у кого заплатки, а у кого и прорешины. Особенность же шаровар состояла исключительно в ширине напуска. Чем больше материала болталось пузырем у щиколоток, тем фасонистее они выглядели в глазах владельцев казацкой одежки. На сей счет не было равных Борьке, которому мать собственноручно скроила, сметала и сшила шаровары не хуже, чем у запорожского казака. Обувка тоже не отличалась разнообразием. Ванька Крюков носил кожаные тапочки, которые мать купила ему в мастерской потребсоюза. У остальных были синие тапочки-волейболки на резиновом ходу, продававшиеся по весне в раймаге. Вообще-то дома и по деревне мальчишки предпочитали бегать босиком, но на заводе эта вольность оказывалась невозможной из-за необходимости ходить зачастую по осколкам битого кирпича, в изобилии усеивавшего территорию. В обжиговую печь вообще без сапог-кирзачей не суйся. Впрочем, по малолетству нашим героям участвовать в завершающей стадии процесса изготовления кирпича не доводилось. Расценки на обжиге самые высокие – что повременные, что с выработки. Зато нужны мастерство и мужская сила, плюс «дюжилка», то есть выносливость. Ни того, ни другого, ни третьего нажить пацаны пока не сумели, понятное дело. Сшибали свой «рупь» на штабелевке и просушке кирпича-сырца.
Свободные вагонетки жарили бока в заросших высоченной полынью тупиках, и поневоле пришлось натягивать на стриженые макушки кепки да тюбетейки, иначе по мозгам шибанет – и не заметишь, как говаривал заводской сторож дед Курило, досматривавший за пацанами из старческой назидательности. Но сегодня и дедушки не видать, схоронился где-то в амбарной прохладности и дремлет себе вполуха.
Толян Дробухин первым поскакал в тупик, и правильно сделал, так как более-менее исправные вагонетки были задействованы на вывозе кирпича-сырца от пресса к дальним амбарным стеллажам. В полынной духоте покоилась под открытым небом такая ржавая рухлядь, что ей самое время пойти в металлолом, в чем и помогали ребячьи игры. Особо выбирать не пришлось. Жарко задышав кривоватым, с горбинкой, носом, сломанным здесь же прошлым летом, когда на него с верхней полки стеллажа хряпнулся плохо уложенный кирпич-сырец, Дробя ухватился за крайнюю вагонетку и вытолкал ее на раскаленную рельсовую колею, упираясь ногами в пропитанные креозотом шпалы.
За ним налетели остальные воины. Борька кряхтел у застрявшей лежа на боку ближайшей вагонетки. Пришлось помогать поставить ее на колеса, ибо полтора центнера железа, каким бы ржавым оно ни было, это все-таки те же самые сто пятьдесят кэгэ, которые в их селе покорялись одному только Ивану Краснослободцеву. Но то Иван, первый деревенский силач, штангист, а заодно и директор кирпичного завода. Он тут наупражнялся будь здоров!
Маломощным отрокам пришлось утроить свои силешки. На помощь рослому крепышу Железе подоспели низенький, похожий на колобок Леха Селиванов, а за ним худой и не в меру длинный Ванька Крюков. Сообща крякнули, поплевав по-мужицки на ладошки, пукнули от натуги – и водрузили вагонетку на колеса. Поставить ее затем на рельсы было гораздо проще. Подкантовали транспортное средство к рельсам, завели одну пару колес на рельсы, потом подважили бревнишком из штабеля, приготовленного для замены сгнивших шпал – и другую пару поставили на место. Вагонетка, худо-бедно, утвердилась на позабытой ею стальной колее. Следом подобную операцию проделали для «паровозов» Лешки и Ваньки.
Тем временем «бронепоезд» Дробухина угрохотал по стыкам на безопасное расстояние. Тактика игры заключалась в том, чтобы достичь ближайшего поворотного круга, заехать на него и не соскочить при этом с рельсов. Дальше надо было не мешкая определить наиболее безопасный маршрут по лабиринту заводских рельсовых развязок, чтобы не наткнуться на груженые вагонетки. Обычно на них возили кирпич-сырец до самых дальних складов. На ближние сушильные сооружения от пресса тянулись ленты транспортеров, вот там-то рельсы бывали, как правило, свободны.
Громыхающая кавалькада ржавых вагонеток, управляемая настырными пацанами, носилась за «бронепоездом» до тех пор, пока кому-то не удавалось или настичь беглеца на открытом перегоне, или так сманеврировать на поворотном круге, чтобы зайти в лоб противнику. Тогда случалось главное, ради чего и затевалась игра. Вагонетки сталкивались со страшным скрежетом и громом своих пустых емкостей. Задача игроков состояла в том, чтобы не прозевать момент столкновения и отпрыгнуть в сторону. Видимо, над мальчишками постоянно витали их персональные ангелы-хранители – до увечий дело пока не доходило, а мелких ссадин и синяков никто не считал.
Получаса обычно хватало на эту забаву. Затем вагонетки снова заволакивались на рельсы и тихим ходом, – как говаривал начитанный Борька, «товарной скоростью», – возвращались и дальше ржаветь под открытым небом на задворки заводских путей.
Сегодня сражение закончили пораньше, оставалось еще полчаса до гудка. Да, да, на заводишке, каким бы неказистым ни выглядело это производство местного красного кирпича, рубежные временные отрезки обозначались гудком. На сей счет в котельной, работавшей круглосуточно и круглогодично ради нагрева воды, подаваемой к глиносмесительному прессу, придуман был сигнальный прибор. Стоило механику Стамбулычу дернуть веревку, свисавшую с патрубка на хребтине котла, – и заводские окрестности оглашались хрипловатым сипением, вызываемым прохождением пара через трубку с особой на то дырочкой. Назвать этот звук гудком было сложно по причине его шепелявости и относительной маломощности. Но, раз гудок, значит, гудок! Директор Краснослободцев считал, что традиции воспитывают юных рабочих завода. Ну а штатные ветераны, за неимением часов, отмеряли гудком отрезки суток.
В летнюю пору завод работал круглосуточно, в три смены. Основная смена начиналась в семь утра и заканчивалась строго в шестнадцать ноль-ноль. Вечерняя и ночная смены были покороче на полчаса каждая. Работали в них взрослые штатники, и главным образом на прессе. В эту пору сырым кирпичом забивались стеллажи ближайших складов. Основная работа разгоралась с утра – с приходом калымщиков-школяров и местного пролетариата, стекавшегося подзашибить живую деньгу на вечные свои нуждишки.
Четыре часа первой половины смены и катание вагонеток утомили ребят. Что ни говори, а у худобоких пацанов не только силешек, но и терпежки не скопилось еще в достатке. Лешка и Ванька подались под амбарную крышу. Забросив соломенные маты, которыми занавешены были от солнца решетки стенных пролетов, на самую верхотуру стеллажей, куда по причине своей малорослости кирпичей не наложили, они полезли покемарить чуток в прохладе. Хорошо вытянуться на скользкой, остужающей ребрышки соломке! Косточки похрустывают, хрящики пощелкивают – рост свой обозначают.
Борька как растянулся на мате, так и засвистел в две дырочки. У него отключка страшенная, он где-то книжонку раздобыл про индийских йогов, вычитал разные рецепты управления своим телом. Из медитационных поз лучше всего ему удавалась вот эта – лежа на спине или боку, без разницы. Даже всхрапывал не хуже взрослого.
И лишь неугомонному Дробе не сиделось, не лежалось. Вот уж кто йог так йог. Да к тому же и фантазер, мастер на всяческие замысловатые придумки. Он остался жариться на солнце и от нечего делать принялся строить из кирпичей невиданные сооружения.
Шершавые глиняные параллелепипеды, отлежавшие свой срок в амбарной проветриваемой полутьме и потерявшие часть влаги, выставлялись в погожие дни досушиваться прямо на открытый воздух. Конструкция предельно простая: пара кирпичей ставились ребром на утрамбованную и подметенную земельную площадку так, чтобы между ними было с кулак пространства. Затем строго перпендикулярно они перекрывались другой парой кирпичей. Получалось, если глядеть сверху, нечто вроде окошечка с крестообразной проекцией. И так – пока хватит кирпичей. Надстраивать третий ряд, не говоря уже о четвертом, не позволялось, так как влажноватые кирпичи в местах соприкосновения передавливались, и в них оставались заметные глазу вмятины. А это брак.
Фантазия у Дроби не хромала никогда, а чего ей хромать, если чубчик кучерявится? Волосы, известное дело, вьются, когда мысли в голове крутятся.
Толян шмыганул своим сломанным носом, отступил на пару шагов и принялся чертить в воздухе рукою воображаемые контуры будущего строения. Нарисованная картина ему не глянулась, он стер ладошкой видение, потряс башкой с волосами в крупных кольцах, выметая шаблонные образы. Хотелось чего-то такого… Ну, такого… В общем, не то это всё…
Подумал почему-то, как дома после смены первым делом заглянет в кладовку. Там стоит бидончик со свежим медом – дед Аникей накачал цветочного, принес вчера с пасеки – пейте, мол, чай с лепешками. Мамка по такому случаю крендельков с маком – она их называла тарочками – и плюшек напечет обязательно, не поскупится муку потратить. Даже почмокал губами Толян от предвкушения будущего наслаждения. Он на пасеке у деда любил пробовать сотовый мед, жаль только, что дедушка берег воск и давал помаленьку, наказывая разжеванный воск не выплевывать, а складывать в специальную кастрюлю. После воск перетапливался на плите и вновь шел в дело – на ремонт рамок с вощиной. Как известно каждому деревенскому пацану, пчелы добывают пыльцу и нектар, перерабатывают их – и строят из получившегося воска бесчисленные ячейки, которые наполняют затем медом. А что, если…
Дробя вновь тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли, и сосредоточился на одной, которая забрезжила в мозгу наподобие начавшей проявляться фотокарточки.
Он ухватил ближайший кирпич, установил его ребром поодаль от решетчатых конструкций. Потом под углом подставил к нему второй, затем третий, четвертый, пятый – и замкнул фигуру последним кирпичом. Получился кривоватый шестигранник. Толян подшевелил его до четкой правильности. Выстроил второй этаж. Отступил полюбоваться. Как у пчел получается – копия сотов! Но пошатал рукой конструкцию – и убедился в ее непрочности.
Пришлось внести поправку. Он снял весь второй этаж, а потом кирпичи верхнего шестигранника установил на стыках нижнего. Теперь, если глядеть сверху, виделся уже двенадцатигранник. Таким же манером водрузил, в свой метр с кепкой рост, еще шесть ярусов. Получилось в четыре раза выше традиционных решеток. Толян прищурил левый глаз, всмотрелся и поймал себя на интересной мысли: очень уж его придумка смахивает на башню, какие воздвигались по углам рыцарских замков. Он в книжке «Айвенго» нечто похожее видел на рисунке. И стоит не шелохнется, сколько ни толкай. От ветра уж точно не повалится.
Из-за амбарного стенового мата выглянул Ванька, расширил соловые глазенки, писклявым голоском полюбопытствовал:
– Чё там настроил?
От нечего делать они с Дробей поставили рядом еще несколько таких же башен, образовав нечто вроде крепостных стен. Башни по углам вывели повыше, а бойницы изобразили посредством кирпичей, поставленных на попа. Вышло неплохо, и в самом деле настоящий зaмок вырос, можно в войнушку поиграть, прятаться от врага, отбивать атаки противника и даже выдерживать длительную осаду.
Засипел заводской гудок, возвещая конец перерыва. Пацаны покинули солнцепек и нырнули в скозняковую амбарную сутемень. За ногу стащили со стеллажной верхотуры Борьку-йога. Тот шмякнулся на кучу расстеленных внизу матов и только здесь окончательно проснулся, о чем засвидетельствовал нехорошими мужицкими выражениями, которым пацаны быстро выучились на заводе. Леха соскользнул сам, не дожидаясь дружеской помощи.
Минут через пять дернулась серая, измочаленная по краям лента транспортера и потащила от пресса новые, только что нарезанные, еще мокрые кирпичи. Дружки неспешно принялись забивать на стеллажах скользким сырцом свободные ребрастые полки. Глиняные бока кирпичей, словно намыленные, норовили вырваться из ослабших за первую половину смены пальцев. А работать в рукавицах, как требовалось по технике безопасности, тоже неловко: большие верхонки болтаются на ладошках и срываются со скрюченных пальцев даже и без кирпичей. Если учесть вес самого кирпича, который на выходе из пресса тянет никак не меньше трех с половиной кило, то картинка получается та еще. Борька Железниченко не поленился подсчитать, чего они за смену нарабатывают. Вышла такая арифметика. В среднем за смену нарезалось тысячи четыре, иногда и побольше, сырых кирпичей – нормы особой не было, все зависело от исправности пресса… Умножаем на три с полтиной и делим на число членов их бригады, сводим сальдо с бульдой, как шутил при подведении итогов «дерик» – директор завода Иван Краснослободцев. Так что на нос и падало по три с половиной тонны глиняного веса, который надо вовремя ухватить с транспортерной ленты и перекинуть дружку у стеллажа.
Все бы ничего – эти самые килограммы… Деревенским мальчишкам не впервой было тягать с малолетства, когда на тощеньком горбу, когда на синеньком от натуги пупу, непосильные их годочкам веса. Но досаждали подсыхавшие кирпичи – вот уж первейшая терка для шкуры на пальцах! Фаланги, суставы, ладони попервости целиком теряли защитную крепость, саднили и кровянили немилосердно. Порой их даже бинтовать приходилось дома, предварительно смазав постным маслицем для смягчения остатков кожи. Правда, недельки через две-три обзаводились работяжки трудовыми защитными мозолями, отменявшими необходимость в рукавицах. А до той поры приходилось терпеть ради грядущего заработка, дуть и поплевывать на пальцы. И жаловаться некому – сами ведь напросились.
Работали парами, чередуясь. Один снимал сырец с ленты и кидал напарнику, а тот укладывал на полку. За смену у ног того и другого накапливалась порядочная куча кирпичей, с которыми не удалось совладать враз. В случайные остановки из-за этого и передохнуть толком не успевали – надо было поднять «беглый» сырец и положить на место, иначе он мешал и сковывал маневренность.
Сегодня транспортер то и дело застывал, давая передышку. Издалека от пресса доносились матюки механика Стамбулыча, при помощи отвертки, разводного ключа и такой-рассякой матери чинившего механизм. Пресс был старый, трофейный, его привезли из Германии после войны, запчастей никаких и в помине не существовало. В череде ремонтов машина наполовину стала русской. «Технология не та получается, язви ее в душу бога мать!» – в сердцах восклицал Стамбулыч, докручивая последнюю в ремонте гайку.
Под конец смены случилось событие, круто изменившее привычный распорядок труда пацанов. Минут за пять до гудка между стеллажами выросла коренастая фигура Краснослободцева на кривоватых ногах, обутых в пыльные, с отвороченными верхами и болтающимися ушками кирзачи. Директор опытным взглядом прикинул количество загруженных полок, умножил в уме на их емкость и черканул итог карандашом в блокнотике. Карандаш сунул вновь за ухо, а блокнотик поместил в нагрудный карман старой хлопчатой гимнастерки, в которой демобилизовался из армии. По расценкам выходило негусто на брата.
Когда гудок возвестил шабаш и транспортер застыл, повинуясь выключенному Стамбулычем рубильнику, директор поднял руку и скомандовал сержантским голосом:
– Так… Хлопцы, ко мне! Есть разговор.
Первым зашабашил Лешка, стоявший у транспортера. Даже не стал брать доехавший к нему сырец, ничего, полежит себе на ленте до новой смены. Вынул из кармана серый от частого употребления платок и утер пот со лба. Ванька с Борькой еще заканчивали поднимать с полу упавшие кирпичи и укладывали на свободные полки. Толян прибирал соломенные маты из проходов, частью вешал их на крючки между столбами, подпиравшими крышу, чтобы не сильно задувало со двора. Остальные маты сбросал в кучу.
Закончив дела, мальчишки неспешно подтянулись к Краснослободцеву. Директор взял железными пальцами ближайшего к нему Ваньку Крюкова за мосластое плечико, растянул в улыбке верхнюю, заячью от давнишней армейской травмы, губу. Говорили, что Иван перевернулся на бронетранспортере, переломал немало костей и поранил сильно лицо, а губу рассек прямо-таки до безобразности. В родном селе комиссованного сержанта поставили директором кирпичного завода по причине умения командовать людьми. Дурака валять Краснослободцев не привык, инвалидности стыдился, а поскольку молодость брала свое, то вскоре кости срослись, а мускулы окрепли – и от работы, и от спорта, к которому приучился в армии. Чем вагонеточные колеса хуже той же штанги? Одной рукой выхватывал над головой колесную пару, что пушинку. Только вот губа срослась неровно и раздваивалась при улыбке наподобие заячьей. Поэтому Иван старался улыбаться пореже, чтобы не выказывать явно обидный шрам. Вот и сейчас поспешил согнать с лица страшноватую улыбку-гримасу.
– Норму не тянете, – буркнул он, листая блокнот. – Перекуривали, небось, часто? Три тысячи двести тридцать семь кирпичей уложили. На нос рубля по четыре с малыми копейками. На арифмометре уточню.
– Так уж и тридцать семь? – обиженно отозвался самый смелый из дружков – Дробя. Он даже нос свой сломанный задрал с вызовом и чубом волнистым тряхнул. – Мы, что ль, транспортер вырубали?