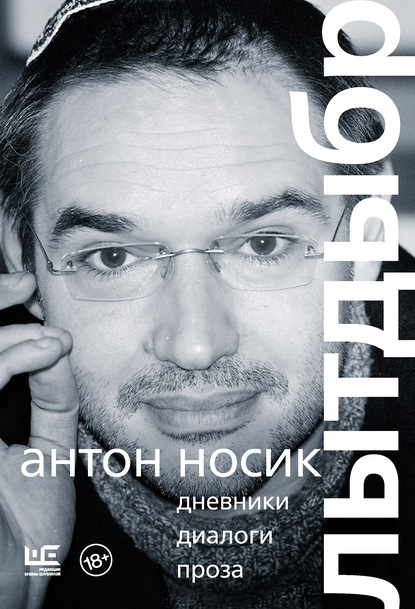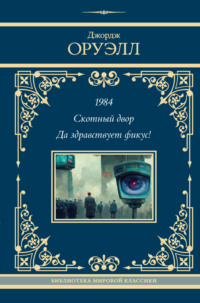Полная версия
Дорога на Уиган-Пирс
Хочу прояснить и подчеркнуть – я не был бунтарем, только если силою обстоятельств. Я принял кодекс бытия. Настолько, что однажды, под конец моей учебы в Киприане, явился к Брауну с секретным донесением об эпизоде, подозрительно намекавшем на гомосексуализм. Насчет гомосексуализма я был весьма несведущ, но я знал, что эпизод произошел, что это плохо и что здесь именно та ситуация, в которой донести правильно. Одобрительное учительское «молодчина!» вогнало в жуткий стыд.
Перед Флип ты оказывался беспомощно податливым, как змея перед заклинателем змей. В ее довольно однообразной лексике имелся целый набор хвалебных и порицающих фраз, точно рассчитанных на определенную реакцию. «Вперед, парень!» – и шквал энтузиазма взмывал до небес. «Не строй из себя дурачка!» (вариант: «как трогательно, правда?») – и полное ощущение себя дебилом. Или «не слишком-то это справедливо с твоей стороны, скажи?» – и к глазам подступали слёзы. И всё же, всё же в глубине души таилась неизменная твоя сущность, знавшая правду о тебе: хихикал ты, или хныкал, или трепетал от благодарности за скудную милость, – единственным подлинным чувством была ненависть.
4
На пороге жизненного пути мне открылось, что ты можешь сотворить зло вопреки своей воле; вскоре я узнал, что можно совершить дурной поступок, не понимая ни сути поступка, ни того, почему он дурной. Некоторые грехи вам не объясняют ввиду их эфемерности, относительно других не дают внятных разъяснений, поскольку это грехи слишком ужасные. Например, секс, всегда тлевший на глубине – и вдруг, мне тогда было лет двенадцать, взорвавшийся громким скандалом.
Есть приготовительные школы, свободные от гомосексуальных проблем, но в Киприан «испорченность» проникла, чему, возможно, поспособствовали южноамериканские воспитанники, созревающие года на два раньше английских ровесников. Что, собственно, произошло, я толком и не знаю, в том возрасте тема меня не увлекала; думаю, дело касалось групповой мастурбации. Во всяком случае, над нашими головами разразилась буря. Вызовы в суд, допросы, признания, бичевания, покаяния, торжественная лекция, из которой удалось понять лишь то, что существует страшный неискупимый грех, обозначаемый как «скотство» или «свинство». Одного из зачинщиков, приговоренного к исключению мальчика по фамилии Хорн, перед высылкой, по свидетельству очевидцев, секли четверть часа без перерыва. Вопли его слышались даже во дворе. Но все мы были каким-то образом замешаны, чувствовали себя замешанными в преступлении. Вина туманно-дымной пеленой висела в воздухе. Один преподававший у нас кретин, напыщенный брюнет, впоследствии член парламента, собрал старшеклассников в отдельном помещении и произнес речь о Храме Тела.
– Есть ли в вас понимание сокровищницы ваших тел? – сурово вопросил он. – Вы рассуждаете про все эти автомобильные моторы, все эти «Роллс-Ройсы» и «Даймлеры», но существует ли механика, сравнимая с устройством ваших тел? И вы готовы повредить, сломать это устройство – навек сгубить его!
Лектор обвел взглядом аудиторию, мрачный взор черных запавших глаз уперся в меня:
– И вот воспитанник, которому мы верили, кого считали достаточно прилежным и нравственным, становится в ряд наихудших!
Обреченность пронзила мое сердце. Итак, я тоже виновен. Тоже повинен в очевидном, пусть и почти неведомом мне злодеянии, которое погубит тело и душу, угробит жизнь, неизбежно приведет к самоубийству либо в сумасшедший дом. До той минуты я все-таки надеялся на свою невиновность, и настигшее меня обличение во грехе было, пожалуй, особенно ужасным от незнания того, что́ же я совершил. Я не принадлежал к тем, кого вызывали, допрашивали и секли; поднявшийся переполох, как мне казалось, не имел ко мне отношения. И суть скандала я тогда плохо понимал, лишь через пару лет до меня полностью дошел сюжет лекции о Храме Тела.
В то время я был существом бесполым, что нормально, во всяком случае, обычно для мальчишек такого возраста, а потому одновременно и знал и не знал так называемые «факты жизни». Лет пяти-шести мне, подобно многим малышам, довелось пройти фазу сексуальности. Друзьями у меня были дети водопроводчика, и порой наши игры содержали некий смутно эротический оттенок. Помню, при игре «в доктора» я ощутил слабый, но, безусловно, приятный трепет, выслушивая дудочкой, изображавшей стетоскоп, живот маленькой девочки. Примерно тогда же я по уши влюбился (и никогда потом моя любовь не достигала столь глубокого обожания) в девушку Элси из монастырской школы, куда я ходил. Элси мне виделась взрослой, было ей, вероятно, лет пятнадцать. После этого, как часто бывает, всякая сексуальность надолго меня покинула. К двенадцати годам знаний о сексе не прибавилось, а понимание его уменьшилось, поскольку самое существенное – связанное с ним приятное волнение – позабылось. До четырнадцати лет предмет не вызывал интереса, даже помыслить о нем бывало противно. «Факты жизни», почерпнутые в наблюдении животных, создавали представление искаженное и весьма неполное. То, что животные спариваются, и то, что человеческая плоть сродни животным, я знал, но насчет спаривания людей знал как бы нехотя, вспоминая об этом, только когда что-нибудь вроде фразы из Библии заставляло вспомнить. Отсутствие желания не стимулировало любопытство, и я согласен был оставить ряд вопросов без ответа. Так, зная, в принципе, откуда берется в женщине ребенок, я не знал, как он из нее появляется, и не стремился получить разгадку. Мне были известны все грязные словечки, в угрюмом настроении я охотно повторял их про себя, но значения самых крепких слов не знал и узнать не хотел. Абстрактные словеса типа нечестивых заклинаний. В том своем состоянии мне было легко оставаться в глупом неведении относительно любых творившихся вокруг сексуальных злодеяний, не сделавшись мудрее и к моменту, когда грянул скандал. Самое большее, что я смог уловить сквозь невнятно угрожающие тирады Флип, Самбо и прочих воспитателей, – преступление, в котором мы все виновны, как-то связано с половыми органами. Я замечал, не особо интересуясь, что пенис иногда непроизвольно встает (это начинается у мальчиков задолго до появления осознанных сексуальных желаний), теперь я стал склоняться к мысли, что данное телодвижение преступно. Во всяком случае, дело связано с пенисом – таков был мой глубокий вывод. Полагаю, рядом было немало столь же темных юных невежд.
После беседы о Храме Тела (сколько-то дней спустя – скандал, как вспоминается, тянулся несколько дней) мы, дюжина кандидатов в стипендиаты, сидели за длинным полированным столом, служившим для наших занятий под руководством директора. Сидели мы перед потупившей очи Флип. Протяжный отчаянный вопль донесся из комнаты этажом выше. Там пороли, исправляли поркой Рональда, маленького, не старше десяти лет ученика, каким-то образом причастного злодейству. Обшарив наши лица, глаза Флип остановились на мне.
– Видите… – сказала она.
Не поручусь, что она произнесла: «Видите, что вы наделали», но интонация была ясна. Мы со стыдом понурили головы. Конечно, наша вина – как-то уж мы умудрились сбить с пути бедного Рональда, довести его до мучений и гибели. Взгляд Флип переместился на лицо другого паренька, звали его Хис. Тридцать лет прошло, не помню, процитировала она стих по памяти или достала Библию и велела Хису прочесть текст: «…а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской»[13].
Ужас! Рональд как раз был одним из малых сих, а мы его соблазнили. Лучше бы это нам повесили на шею мельничный жернов, нас бы потопили во глубине морской.
– А думал ли ты, Хис, задумывался ли о том, что́ это значит? – печально молвила Флип.
Хис не выдержал, разревелся.
Уже упоминавшийся мной Бичем тоже заплатил жгучим стыдом, уличенный в «черных кругах вокруг глаз».
– Бичем, ты в зеркало смотришься? – пытала Флип. – Тебе не стыдно? Ты думаешь, никто не понимает, отчего у тебя вокруг глаз черные круги?
И новое терзание: а у меня не почернело вокруг глаз? Насчет преступного и явного для детективов симптома мастурбаций я был не в курсе, хотя догадывался, что здесь признак порока, порочности. И многократно, еще не постигнув смысла жутких стигматов, с тревогой вглядывался в свое отражение, страшась увидеть печать грешной тайны на собственной физиономии.
Все эти ужасы периодически накатывали, не колебля моей, так сказать, официальной правоверности. Истина о поджидающем финале с психушкой либо петлей самоубийцы пугала уже менее остро, но оставалась истиной. Примерно через полгода после скандала мне довелось снова увидеть Хорна, зачинщика, которого, жестоко выпоров, изгнали из школы. Сын весьма небогатых родителей, Хорн был в числе парий, что, несомненно, добавило Самбо поводов столь немилосердно обойтись с этим учеником. Изгнанный Хорн поступил в Истборн-колледж, небольшой местный частный интернат, глубоко презираемый в Киприане как заведение «не совсем». Лишь очень немногие наши воспитанники имели несчастье там оказаться, и директор всегда упоминал о них с какой-то брезгливой жалостью. Их участь, разумеется, была предрешена, им уже не светило ничего, кроме места убогого конторщика. Мне Хорн виделся бедолагой, в тринадцать лет утратившим надежду на сколько-нибудь приличное будущее, – конченым и морально, и социально, и физически. Родители Хорна, думал я, не могли отправить опозоренного сына в заведение получше Истборн-колледжа, ведь ни в один «хороший» колледж его не взяли бы.
И вот нам, выведенным на прогулку, в городе повстречался Хорн. Выглядел он абсолютно нормально. Вполне пригожий темноволосый крепыш. Вроде даже повеселел: на лице его, прежде довольно бледном, цвел румянец, и его, похоже, ничуть не смутила встреча с нами. Он явно не стыдился ни своего изгнания, ни Истборн-колледжа. Если что-то и выражал его брошенный на нас взгляд, так это радость избавления от Киприана. Впрочем, встреча не особо меня впечатлила. Вывода из того, что погибший телом и духом Хорн демонстрировал здоровье и счастье, не последовало. По-прежнему я верил сексуальным мифам, внушенным мне усердием таких наставников, как Флип и Самбо. Секс по-прежнему был полон страшных таинственных угроз. В любое утро черные круги могли возникнуть вокруг твоих глаз и объявить, что ты среди погибших. А вместе с тем, надо заметить, это уже не слишком трогало. Подобные противоречия легко сосуществуют в детской голове благодаря жизнеспособности ребенка. Ребенок принимает – как он может не принять? – всякую чушь из взрослых авторитетных уст, однако юный организм и сладость жить рассказывают другую историю. Это как с адом, в который я благочестиво верил лет до четырнадцати. Ад есть, и красочная проповедь о преисподней может до обморока напугать, но ужас почему-то быстро тает. Пламя геенны огненной горит по-настоящему, жжет так же больно, как лизнувший твою руку язычок свечки, и, однако, по большей части ты способен созерцать адское пламя спокойно и бестрепетно.
5
Провозглашенные кодексом Киприана религиозные, моральные, социальные, интеллектуальные параграфы на практике противоречили друг другу. Давал о себе знать конфликт между правившим в XIX веке идеалом воздержанности и захватившим власть в начале XX века идеалом роскоши и снобизма. На одной стороне – церковное христианство, пуританство, упорство, трудолюбие, строгость к себе, трепет перед учеными умами; на другой стороне – неприязнь к «умникам», страсть к развлечениям, презрение к рабочим и иностранцам, невротический страх перед бедностью и, главное, уверенность в том, что важнее всего – деньги и привилегии, причем крайне желательно не заработанные, но полученные по наследству. Тебя обязывали быть христианином – и в то же время преуспеть, что невозможно. Мысль об отмене несовместимых идеалов меня тогда не посещала, я просто видел недостижимость и тех и других, поскольку от того, что ты делаешь, ничего не зависит, – всё зависит от того, кем ты являешься.
Очень рано, едва ли старше десяти лет, я пришел к выводу (никто мне не подсказывал; видимо, это носилось в воздухе), что хорошего не жди, не заимев свои сто тысяч фунтов. Сумму, надо полагать, навеяло чтение романов Теккерея. Проценты со ста тысяч составят четыре тысячи годовых (я не рисковал превысить надежные 4 %), и это представлялось минимальным доходом, с которым реально примкнуть к обществу владетелей шикарных загородных вилл. Относительно истинного рая уже было ясно, что нет мне дороги туда, где обитают только уроженцы райских краев. Деньги можно было сделать загадочным мероприятием под названием «пойти в Сити»; правда, сто тысяч там, в Сити, набиралось у тебя, лишь когда ты становился жирным и старым, а самым завидным у избранников небес являлось богатство, дарованное смолоду. Так что для подобных мне амбициозных представителей среднего класса, которым ни шагу без экзамена, единственным путем к успеху было корпеть, вкалывать по-черному. И усердно карабкаться по ступенькам стипендий к престижной службе в министерствах или администрации колоний, или, может, к адвокатуре. И помнить, что стоит на миг скиснуть, увильнуть, – как тут же свалишься на дно конторской шушеры. Хотя и на вершине возможных для тебя постов останешься персоной невеликой, прихвостнем больших шишек.
Даже если бы главные пункты житейской мудрости мне не вдолбили Флип и Самбо, просветили бы однокашники. Удивляюсь теперь, как глубоко и плотно мы были пропитаны снобизмом, как много нам говорили имена и адреса, как тонко мы улавливали нюансы акцента, привычек, покроя одежды. Были у нас мальчишки, которые и в пору общего угрюмого безденежья на середине зимнего семестра прямо-таки сочились деньгами. Хвастались эти всезнающие снобы наивно и безудержно. После каникул (или перед ними) поднималась светская трескотня о Швейцарии, Шотландии с ее гилли[14] и охотой на куропаток в вереске, а также ежесекундные «на дядиной яхте», «у нас в имении», «мой пони», «отцовское дорожное авто»… Полагаю, от сотворения мира не бывало эпохи столь вульгарно и навязчиво, без вуалей аристократичного изящества, выставлявшей свое вспухшее богатство, как в те годы, до 1914-го. Годы, когда обезумевшие миллионщики в цилиндрах с загнутыми полями и лавандовых жилетах закатывали вечеринки с шампанским в раззолоченных плавучих домах на Темзе, годы танго «diabolo», узких юбок, юных щеголей в серых котелках и заменивших сюртуки визитках, годы «Веселой вдовы», «Питера Пэна», «Там, где кончается радуга» и остроумных новелл Саки[15], годы, когда утомительно длинные слова «шоколад» и «сигареты» сократились до «шок» и «сиг», а вместо «превосходный!» зазвучало «зверский!», годы дивных уик-эндов в Брайтоне и восхитительных чаепитий в кафе «Трок». Кондитерской атмосферой лужаек с непременным поглощением клубничного мороженого под «Песню итонских гребцов», чересчур сладкой душистостью бриллиантина, мятного крема, конфет с ликерной начинкой – приторной безвкусицей грубой, по-детски жадной роскоши пропахло десятилетие перед 1914-м. Но удивительней всего – общее тогдашнее убеждение в естественности, в незыблемой прочности крикливого, кичливого богатства английских нуворишей из высших и высшесредних классов. После 1918-го всё стало уже не тем, что прежде. Снобизм и дорогие привычки вернулись, но выказываясь уже несколько стеснительно, оборонительно. До войны же культ денег прекрасно обходился без горьких дум и тревог совести. Несомненная благодетельность денег стояла вровень с благом здоровья и красоты – лимузин, титул или толпа слуг сияли ореолом очевидной моральной добродетели.
Общий скудный бытовой уклад в Киприане располагал к определенной демократии, но любое упоминание каникул, тут же исторгавшее фонтаны бахвальства об автомобилях, дворецких и поместьях, сразу выявляло классовые различия. Особенно ярко контрасты жизненных стандартов обнаруживались в связи с примечательным тогдашним преклонением перед всем шотландским. Флип обожала поговорить о ее шотландских предках, поощряла шотландских мальчиков вместо школьных костюмчиков носить килты и родовые тартаны, даже дала своему младшему ребенку гэльское имя. Шотландцами следовало восторгаться, ибо это народ «суровый и непреклонный» («суровый» было, пожалуй, ключевым словом), непобедимый на полях сражений. Стену большой классной комнаты украшала гравюра с изображением атаки шотландской конной гвардии в битве при Ватерлоо, причем лица атакующих гвардейцев изумляли выражением необычайного наслаждения. Для нас образ Шотландии состоял из костров, крутых холмов, волынок, килтов, меховых сумок, двуручных мечей, а также чего-то бодрящего из смеси овсянки, протестантства и холодного климата. В основе же крылось совсем иное. Истинная причина культа Шотландии была в том, что лишь богачи могли весело проводить там лето. И для очистки совести английские оккупанты притворялись, что преклоняются перед страной, где они сгоняют крестьян с земли ради просторов охотничьих угодий, вознаграждая коренных жителей их превращением в холуйскую обслугу. Говоря о Шотландии, Флип прямо-таки лучилась наивным снобизмом; иногда даже имитировала легкий шотландский акцент. Шотландия была раем для избранных. Лишь им было дано потолковать о личном заоблачном блаженстве, указав остальным их место далеко-далеко внизу.
– В Шотландию летом собираетесь?
– Само собой! Мы каждый год туда.
– Папаша приобрел землицу там: три мили вдоль реки.
– А мой ружье мне подарил, двенадцатый калибр. Есть у нас там, где птичек пострелять. Ты чего слушаешь, Смит? Кыш отсюда! Ты же Шотландию в глаза не видел. Пари держу, тетерева от куропатки не отличишь.
И следом искусно воспроизведенный тетеревиный клекот, олений рев, и с нажимом про «наши гилли» и т. п.
И допросы новичков сомнительного социального происхождения – допросы, выясняющие всё так быстро и точно, что инквизиторы бы рот разинули.
– Сколько у твоего папаши годовых? Ты где в Лондоне живешь? Далеко от Кенсингтона, Найтсбриджа?[16] У вас сколько комнат? А слуг сколько? Дворецкий есть? Хоть повара-то держите? Одежду шьете на заказ или из магазина? На шоу ты в этом году сколько раз был? А сколько денег тебе с собой дали?
Помнится катехизис, по которому терзали новоприбывшего малыша не старше восьми.
– У вас авто есть?
– Да…
– Марка какая?
– «Даймлер»…
– А сколько лошадиных сил?
Пауза, и прыжок в темноту:
– Пятнадцать…
– Фары какие?
Несчастный малыш онемел от растерянности.
– Ну фары, тебе говорят, какие: на электричестве или ацетилен?
Долгая пауза, и опять прыжок в темноту:
– Ацетилен…
– Балда! Он говорит, что у авто фары ацетиленовые! Их уж сто лет не выпускают, где ж твой папаша такую рухлядь откопал?
– Да врет он! Нет у них никаких авто. Малый из работяг. Папаша его – работяга.
По основным своим социальным параметрам я был, конечно, нехорош и ни на что хорошее претендовать не мог. А были люди, коим почему-то в полном пакете доставался набор известных добродетелей. Не только деньги, но и сила, и обаяние, и красота, и мускулы атлетов, и то, что называется «крепким нутром», «характером», а в жизни означает умение подмять под себя. Но ни одним из этих качеств я не обладал. В спортивных играх, например, был безнадежен. Мне удалось все же кое-чего добиться в крикете, и плавал я неплохо, однако тут престиж не набирался, поскольку ценен у мальчишек лишь мужественный, храбрый спорт. Футбол – вот что ценилось, а я в футбол играл как трус. Меня воротило от игр, где я не находил ни удовольствия, ни смысла, и футбол мне казался не наслаждением погонять мяч, а специфичной дракой. Все наши заядлые футболисты были ватагой здоровенных молодцов, отлично подшибавших и ловко топтавших игроков послабее. Футбол! Образчик школьной жизни – сплошных триумфов силачей над слабаками. Эталонная добродетель победителей, способных быть мощнее, здоровее, богаче, популярней, элегантней, бессовестней других, чтобы господствовать над ними, всячески демонстрируя свое превосходство, измываться, заставлять их страдать и глупо выглядеть. Справедливость жизненной иерархии. Есть сильные, достойные приза и непременно его получающие, и есть слабые, кому по заслугам проигрывать всегда, во всём.
Установленные стандарты я сомнению не подвергал, ибо иных не наблюдалось. Могли ли быть неправыми сильные, модные, смелые, властные, богатые? Мир принадлежит им, так что их правила безусловно верны. И всё же с самых ранних лет я ощутил: не получится у меня по их правилам. Затаившееся в сердце внутреннее «я» то и дело вздрагивало от несогласия душевных фибр с моральным долгом. В любой сфере, мирской или мистической. Вот религия, например. Я должен любить Бога, в этом у меня сомнения не было. И до четырнадцати лет я верил в Господа, во все свидетельства о нем. Но мне же было прекрасно известно, что не люблю я его. Ненавижу, как и Христа, и всех библейских патриархов. Если имелись некие симпатии к фигурам Ветхого Завета, так вызывали их такие персонажи, как Каин, Иезавель, Аман, Агаг, Сисара, а в Новом Завете друзьями мне были бы (если бы были) Анания, Иуда, Каиафа и Понтий Пилат. В религии, куда ни глянь, я упирался в психологический тупик. Молитвенник, скажем, предписывал и возлюбить Господа, и страшиться, – а как ты можешь полюбить кого-то, кого боишься? И в жизни те же самые проблемы. Моральный долг повелевал чувствовать благодарность к Флип и Самбо, а я нисколько ее не чувствовал. Еще понятнее был долг любить отца, а я не питал нежных чувств к отцу, которого едва и видел до восьми лет, который был для меня престарелым занудой, хмуро ворчавшим «нет, нельзя». Тут не присутствовал отказ, сознательное нежелание чувствовать как положено, как подобает. Просто не получалось. Правило и переживание, казалось, никогда не совпадают.
Как-то я наткнулся, правда, не в Киприане, а чуть позже, на стихотворную строчку, ударившую прямо в сердце, – «армия неизменного закона»[17]. Я всем существом понял, что́ значит оказаться Люцифером, поверженным, поверженным законно и не имеющим ни шанса отомстить. Учителя с их плетками, миллионеры с их шотландскими замками, атлеты с их волнистыми шевелюрами – армия неизменного закона. Трудно мне было в те времена додуматься, что в жизни-то этот закон не столь уж неизменен, что очень даже можно его изменить. А тогда закон меня, мальчишку, приговорил. Я не имел денег, был слаб и некрасив, непопулярен, трусоват, меня бил хронический кашель, от меня разило по́том. Ужасающий образ, но, должен сказать, на реальной почве. Неказисто я выглядел. Если и не совсем таким родился, то в Киприане постарались насчет этого. А вообще, ребенку свои жуткие изъяны видятся, невзирая на факты. Я, например, был уверен, что «пахну». Основание вероятностное: известно ведь, что от противных людей «пахнет», ну, значит, и от меня. Или вот долго, пока не покинул школу, я полагал себя сверхъестественным уродом. Так говорили однокашники, а я не чувствовал в себе достаточной авторитетности, чтоб оппонировать. Кстати, глубокое убеждение в том, что я обречен на неуспех, засело во мне на многие годы. Лет до тридцати все мои планы строились с учетом не только неизбежного провала очередной колоссальной затеи, но также с перспективой весьма скорого переселения в загробный мир.
Однако же имелось нечто в противовес тоске вечной вины и неудачи – инстинкт выживания. Даже хилый, несмелый, невзрачный, пахучий и ни на что не годный хочет существовать и быть по-своему счастливым. Я не мог переделать шкалу ценностей, не мог превратиться в баловня успеха, но я мог принять свое невезение и постараться извлечь из него хоть что-нибудь хорошее. Принять себя как есть и всё же выжить.
Намерение выжить, то есть сохранить какую-никакую независимость, было, по сути, криминальным, ибо нарушало всеми, в том числе мной, признанные законы. А жил-был у нас паренек Джонни Хейл, чудовищно меня угнетавший. Могучий здоровяк с ярким румянцем и темными вьющимися волосами, он постоянно выворачивал кому-то руки, крутил уши, кого-то хлестал стеком (будучи из той самой «команды шестых») или демонстрировал чудеса на футбольном поле. Флип к нему очень благоволила (отсюда общая школьная привычка называть его по имени), Самбо хвалил его за «характер» и умение «поддерживать порядок». Свита подхалимов дала ему прозвище Командор.
Однажды в моечной раздевалке Хейл по какому-то поводу начал меня цеплять. Я огрызнулся. Он схватил мое запястье и резко, дико болезненным приемом заломил мне руку. Помню вплотную перед глазами ухмылку на румяном лице красавца. Был он, по-моему, немного старше меня и, разумеется, несравненно сильнее. Когда он прекратил пытку, в сердце моем взыграла злобная решимость. Сейчас, как только окажусь у него за спиной, тресну его неожиданно изо всех сил. Медлить не стоило, так как вот-вот должен был появиться педагог, чтоб увести нас «на прогулку», и с дракой не вышло бы. Примерно через минуту, напустив на себя самый безразличный вид, я приблизился к Хейлу и, обрушившись на него всем телом, двинул ему в зубы. Ловким ударом он отшвырнул меня, из угла рта у него побежала кровь. Ясное жизнерадостное лицо потемнело от гнева. Хейл отошел прополоскать рот в умывальном тазу.