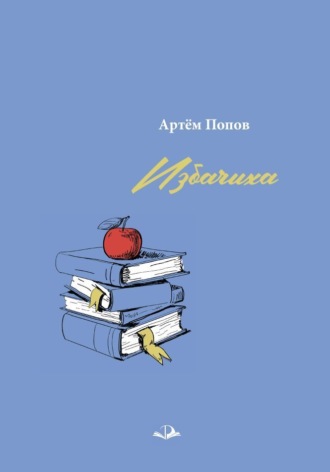
Полная версия
Избачиха

Артём Васильевич Попов
Избачиха
© Попов А.В., 2023
© Издательство «Родники», 2023
© Оформление. Издательство «Родники», 2023
90 лет
Василию Ивановичу Белову
1932–2022
Черепаха с крыльями
Пилота Андрея Берестова на крыльце остановил главный инженер авиаотряда Капустин, седовласый мужик, которого за глаза называли Дед. Они давно вместе работали в Димкове – аэропорту, построенном перед самой Великой Отечественной войной заключёнными, в основном «политическими». Сколько их погибло, осушая болото, точно неизвестно. Рядом с новой взлётно-посадочной полосой и хоронили. «Ох, по косточкам летаете, робята», – говорили местные старики.
– Берестов! Андрей! Тебе опять из «Шарика» письмо с приглашением, – Капустин протянул пилоту глянцевую бумагу с эмблемами.
«Шариком» на лётном жаргоне называли международный аэропорт Шереметьево. Уже второй раз Андрею приходило приглашение на эту престижную работу.
Берестову стукнул сороковник, в авиаотряде он считался опытным и перспективным пилотом, но тем не менее никуда не рвался, наоборот, отказывался от предложений, продолжая работать в маленьком аэропорту северной глубинки. В иные населённые пункты, которые обслуживал авиаотряд, можно было добраться летом только на самолёте, а в холодное время года – по зимнику.
– Ты бы хорошенько подумал, Андрей. Чего сразу отказываешься-то? Зарплата в разы больше, мир увидишь, – по-отечески похлопал по плечу Дед. – Нам, конечно, будет без тебя тяжко, но ничего, выдюжим. Лишь бы у тебя всё сложилось.
– А у меня всё хорошо, – улыбнулся Андрей, но увидел, как Капустин расстроился, и попытался смягчить ситуацию:
– Ладно, подумаю.
Не посмотрев в бумагу, скомкал её и небрежно сунул в задний карман.
Надо было готовиться к вылету по одному из самых дальних маршрутов – в село Якутино. Уже объявили регистрацию на рейс, самые нетерпеливые топтались у зоны досмотра пассажиров и багажа.
– Никуда он не переведётся, – вздохнула Татьяна, сотрудник службы безопасности, которая стояла рядом и тоже слышала разговор Капустина с Берестовым. Она давно и безнадёжно любила Андрея и ревновала его даже к работе. – Свидания у него по пятницам в Якутине.
Капустин ничего не ответил. Все знали про этот любимый рейс Берестова, ради которого он оставался в Димкове, но молчали.
Андрей родился и вырос в морском городе, где строили подводные лодки и все мальчишки мечтали стать моряками. Но в новом садике Андрею достался шкафчик, на дверце которого был нарисован самолёт, голубенький, смешной, и мальчик сразу влюбился в эти крылья, захотел во что бы то ни стало летать. Родители Андрея – небогатые люди, в отпуск к морю ездили только на поезде. Может, поэтому самолёт стал недосягаемой мечтой, к которой хотелось хотя бы прикоснуться. Обычно мечта детства забывается, но не у Андрея Берестова. Он крутил «солнышко» на перекладине на уроках физкультуры, зубрил математику и по-прежнему мечтал покорить небо.
Город, где он жил с родителями, стоял на равнине, точнее, на бывшем болоте. Андрею не хватало высоты, воздуха. Он выезжал за двадцать километров на небольшую возвышенность и смотрел издалека, как растворяется в небе дым из трубы ТЭЦ, словно из гулливеровской сигареты. А если пролетал самолёт, Андрей, пока не затекала шея, восторженным взглядом провожал его до самого горизонта, до исчезающей точки.
В родном городе не учили на пилотов воздушных судов, вуз пришлось поискать. С первой попытки Андрей поступил в Ульяновский институт гражданской авиации. Родители вынуждены были занять деньги, чтобы единственный сын смог обустроиться в чужом городе. Окончил вуз с красным диплом и вернулся на родину.
Он мог летать на «ИЛах» или «Боингах», а у него в распоряжении был Л-410 – двухмоторный самолёт, спроектированный в дружественной когда-то Чехословакии. Это ещё повезло: в авиаотряде летали в основном на АН-2 – «кукурузниках» с деревянными скамейками. Трясло на них так, будто кто-то картонную коробку подбрасывал вверх, а потом ловил.
Л-410 называли «элкой», «турболётом» и даже «черепахой с крыльями». Последнее название приклеилось, вероятно, из-за того, что скорость Л-410 была далеко не крейсерской. Но зато явное преимущество этого лёгкого самолёта – короткий взлёт и посадка, потому что аэродромы-то маленькие. На подкалывания друзей по институту, почему Андрей до сих пор в малой авиации, он отшучивался словами песни из детства: «Тише едешь – дальше будешь, больше увидишь – сильнее полюбишь».
Посадка на Якутино завершалась. Последний пассажир, толстый двухметровый мужик с пузатым рюкзаком, поднимался по лесенке через две ступеньки. На фоне этого гиганта бело-голубой самолёт казался маленьким, игрушечным, словно слетел с дверцы детсадовского шкафчика Андрея… Толстяк пошутил с контролёром-посадчиком:
– Места-то хватит?
– На полу много!
В салоне самолёта суматоха, словно в сельском автобусе: сгорбленная старушка везла в картонной коробке пищащих цыплят; рыжая девушка держала сумку с таким же рыжим здоровым котом; всё пыталась поудобнее устроиться женщина на сносях (вот-вот родит, только бы не в воздухе!); мужики-вахтовики в камуфляже принялись снимать на телефон самолёт и грузовой ЗИЛ с крытым прицепом, приспособленным для перевозки людей. На этом стареньком ЗИЛе пассажиров доставили из одноэтажного деревянного здания аэровокзала. Такие машины раньше использовались и в крупных аэропортах, а теперь – только здесь, на маленьких провинциальных аэродромах. Во время посадки Татьяна проявила бдительность, запретив съёмку. Да и Андрей не любил, когда снимали самолёт ради шутки, как экзотику: «Что, на таких ещё летают?!»
Ваня, второй пилот, только в этом году окончивший лётное училище, объявил пассажирам, что рейс будет проходить на высоте две тысячи метров, что прибытие в Якутино через час и погода по пути следования благоприятная. Все пристегнулись, даже бесшабашные вахтовики.
Андрей сначала запустил один двигатель, затем второй, по своей всегдашней привычке проверил оба на максимальных оборотах. Казалось, самолёт сейчас без разбега рванёт ввысь. В салоне уже недо-вольничали:
– Мы что, с места взлетим, как на вертолёте?
Техник на полосе махнул рукой, показав движение вперёд, – значит, можно лететь, диспетчер дал добро.
По взлётно-посадочной полосе самолёт быстро разгоняется, из-за стыков бетонных плит в салоне «элки» звук будто в вагоне поезда, стучащего по рельсам. Самолёт отрывается от земли… Этот момент в салоне все чувствуют. Медленный набор высоты. Всё хорошо. Андрей успевает заметить на мониторе видеокамеры, установленной в салоне, как бабушка в цветастом платочке перекрестилась.
Пассажиры прильнули к иллюминаторам: вот и главный плюс небольшой высоты – всё видно. Андрей простил вахтовиков, когда увидел, что они с восторгом снимают и облака, которые так любил он сам.
Берестов засматривался на облака, иногда даже отвлекаясь от панели управления, всех этих мигающих спокойным зелёным светом приборов и стрелок. Любоваться облаками было самым прекрасным моментом в каждом полёте. Кучевые, перистые, грозовые – названия как в учебнике. Их можно было бы сравнить с хлопком или ватой – так было бы поэтичней, но вата не такая белая, а хлопка Андрей вживую никогда не видел. Нет, облака в природе ни на что не похожи! Ему хотелось быть ещё ближе к ним, прикоснуться.
Внизу проплывали озëра: одно по форме напоминало блюдце, другое, с островком посередине, походило на баранку, были даже озеро-подкова и озеро-сердце. Огромные ржаво-коричневые болота были похожи на лунные пейзажи. Вились серебристыми змейками небольшие речонки. А вот и большая река со светлыми песчаными отмелями, с цепочками домиков по берегам, и, как в песне поëтся, «зелëное море тайги». Безмерная красота!
Незаметно прошёл час, пора начинать снижение. Ваня напрягся, ссутулился: так он волновался. Андрей улыбнулся, видя, как переживает молодой напарник.
Стали отчётливо заметны домики Якутина. Сосны вокруг села становились всё крупнее и крупнее. Ивовые кусты, аэродром, пугало от птиц, полоса… Шасси мягко коснулось земли. Посадка прошла в штатном режиме. Самолёт, как такси, подрулил прямо к деревянному зданию аэровокзала.
Рыжая девушка с котом не удержалась от комплимента Ване, который открывал люк и подставлял лесенку для выхода:
– Мягче, чем на «Боинге». Спасибо…
В ответ молодой пилот только скромно улыбнулся и обратился к Андрею:
– Не торопитесь, Андрей Николаевич, сами выгрузимся и потом подготовимся к вылету.
Андрей вышел из самолёта сразу после пассажиров и быстрым шагом направился к решётчатой ограде, которую охранял полицейский. Вот такой «выход в город», а не сотни метров переходов в крупных аэропортах.
У ограды, чуть в стороне от оживлённой толпы встречающих, стояла пожилая пара. Именно к ним Андрей Берестов каждую пятницу летал на свидания. Это были его родители.
Андрей неуклюже ткнулся в щеку матери, стесняясь поцелуя, пожал сухую, ещё крепкую руку отца. Он всматривался в родные лица, пытаясь понять, как здоровье, как настроение у стариков.
Тревожился всю неделю. Нет у него ближе людей на земле.
Три часа между посадкой и взлётом он проводил в родительском доме, стоявшем неподалёку от аэровокзала. За это время успевал выпить чаю с малиной, пожамкать кота Степана и даже ополоснуться в баньке, натопленной в честь приезда, а точнее – прилёта сына. Ради пятничных свиданий он отказался от Шереметьева, от больших городов и призрачной карьеры. Дома ему было всегда тепло, спокойно.
Ровно через три часа, минута в минуту по расписанию, «элка» с полным салоном пассажиров шустро оторвалась от земли и взяла курс на Димково. Андрей не знал, что мать украдкой сунула во внутренний карман куртки переписанную от руки молитву с благословением «воздушного шествия, запрещая бурям и ветрам противным, лодию воздушную целу и невредиму соблюдая».
Родители долго махали вслед голубому самолёту, но Андрей их уже не видел. Люди на земле казались всё меньше, пока не исчезли совсем. «Черепаха» набирала высоту. Андрей прищурился, чтобы разглядеть на краю села зеркало пруда. Там водились жирные караси, которых он мечтал половить в отпуске. Видел родительский дом под старой шиферной крышей и необшитую бревенчатую баню, недавно протопленную. Ему показалось, что он даже почувствовал сладковато-пряный запах берёзового дымка. Стоп! Или это запах дыма в кабине? Нет-нет, показалось…
Летим!
Сестра любовь
Гриша-моряк приходил аккурат к концу каждой вечерней службы. Он знал: несколько десятков рублей точно положат ему в пластмассовый стакан с грязными разводами. Когда-то этот одноразовый стаканчик был белым, но Гришка несколько месяцев назад приспособил его для сбора милостыни, а заодно использовал и по прямому назначению – пил всё подряд, ничем не брезгуя. В его положении брезговать чем-либо было глупо.
Храм на берегу реки, где околачивался Гришка, был старинным. Рядом шумели на ветру высоченные ели. Казалось, они такие же древние, как сам собор: от старости иголки почернели. Вот под этими елями у Гришки было устроено лежбище – тут он прятался от холодного дождя и колючего снега.
Гришка – молодой бомж из той категории, когда ещё не всё потеряно. Сегодня одет даже модно: тельняшка и сверху дутая безрукавка в пятнах. Грязноватая горловина или засаленные, обтрёпанные рукава тельняшки всегда виднелись из-под верхней одежды, потому моряком и прозвали.
Волосы у Гришки длинные, почти до плеч. Своим обликом он чем-то походил на местного святого, мощи которого хранились в соборе. Может быть, за эту похожесть или просто из жалости морячка подкармливала служащая в церковной лавке девушка Люба.
Когда она только показывалась из храма, Гришка вставал со скамейки и шёл за ней, как кошка за хозяином. Люба несла в сторону ельника, подальше от собора, нехитрую еду: хлеб, варёные яйца. Настоятель храма отец Димитрий не разрешал устраивать столовую для бомжей у главного входа.
– Спасибо, сестра, – каждый раз благодарил Гришка Любу. Он где-то слышал, что у верующих все сёстры да братья.
Местные прихожане Гришке подавали мало. В основном на службу ходили богомольные старушки, а откуда у них деньги? Сами светятся от худобы, живут на картошке и ягодах. Гришка радовался, когда на большуханском автобусе приезжали туристы: значит, можно рассчитывать на хорошую милостыню. А если иностранцы… Ну, тогда Гришке хватало на пару дней загула. Пил он страшно.
Удобно морячок устроился: река рядом, летом можно помыться, постираться. Жить Гришке есть где: ветхие дома в их городе расселяли, но почему-то не сносили.
Но враги-конкуренты у собора не давали жить спокойно: цыганка Сонька уже несколько смертей ему насылала, а морячок всё не помирал. Сонька была хитрая – железных денег от людей не брала.
– Ой, быть беде, загремишь в гроб, крест металлический вижу, фотографию… – качая головой, испуганно шептала она, и люди верили, меняли трясущимися руками мелочовку на бумажные деньги.
Гришка не гнушался любой подачки. В благодарность всегда кланялся:
– Главное – здоровье… главное – здоровье…
Как раз это и хотели услышать все идущие в храм бабушки, да и любой другой человек.
– Ох, дожить бы до весны, Гришенька, – отвечали и мелко крестились.
Зимой морячку приходилось совсем тяжко. В основном зарабатывал он себе на житуху сбором металлических банок и бутылок, вторсырья, а снег быстро прятал их под своим белым одеялом.
В морозы Гришка спасался тем, что по пути согревался в церквях. Их было в городке больше, чем многоэтажек. Один из его постоянных маршрутов – от главного городского собора у реки к кладбищенской церкви. Стыдно было, но он всё-таки брал оставшуюся после посещения могилок еду, предназначавшуюся усопшему. Только надо было опередить ворон, которые уже поджидали на ветках. Конфетка, яичко, печенюга – пальчики оближешь! А если ещё в стопку нальют и сигареты к памятнику положат – тогда поход на кладбище становился для бомжа-морячка настоящим праздником. К тому же в эту церковь настоятель пускал погреться, не то что в соборе у реки. Там центр города, здесь – окраина: туристы не придут.
Основной работой Любы была церковная лавка. Молодую девушку прихожане любили. Глаза добрые, речь тихая, певучая. Люба немного картавила, что придавало ей какую-то детскость. Кажется, никто никогда не слышал от неё плохого слова.
Любе около тридцати, но замужем не была. Не нашла пару, не получилось. Она выросла в строгой верующей семье (правда, родители уже умерли). Телевизор не смотрела, читала акафисты святым, десятки молитв знала наизусть. Жила одна в благоустроенной двухкомнатной квартире с видом на храм. Утром вставала и первым делом смотрела на золотые маковки собора. Вечером готовилась ко сну – вглядывалась в темноту, чтобы опять увидеть кресты на фоне ночного неба.
Её напарница – баба Маня, горбатенькая старушка. Из-за горбатости на службах бабе Мане можно было не кланяться – и так ходила наполовину склонённая. Но при этом всегда злющая.
– Зря Гришку кормишь! Все равно пропадёт! Замёрзнет или запьётся. Всё ходит и ходит к нам, грязь только носит, – ядовито ворчала она.
Баба Маня работала уборщицей, свечи и иконы ей уже было трудно продавать: не видела почти ничего правым глазом.
– Каракатица у меня, – говорила, называя так катаракту.
– Манефа Ивановна, а не знаешь, как так получилось, что Гриша стал бездомным? – однажды спросила Люба и почему-то покраснела.
– Когда он служил на корабле, его сильно поколотили старослужащие. Избили да ещё поиздевались, – рассказывала всезнающая баба Маня, одновременно выковыривая металлическим штырём огарыши из подсвечников. – А он возьми автомат на дежурстве да давай стрелять в обидчиков на следующий день. Одного шибко ранил. Но дело командиры замяли: кому охота терять звёздочки на погонах. Комиссовали его из армии раньше срока. Вернулся домой, стал пить, комнату в коммуналке продал. Не робит нигде. А пошто ты спрашиваешь про него? Нравится, что ли?
Манефа была уже не в том возрасте, чтобы ходить вокруг да около:
– Ой, девка, смотри у меня! С алкоголиком не связывайся хоть…
…Заканчивалась вечерняя служба на праздник Николы Зимнего. Все уже вышли из храма, батюшка тоже уехал на своём нескромном внедорожнике.
Люба задула свечи и подсчитывала выручку: маловато сегодня получалось.
Хлопнула дверь. Зашёл Никита с каким-то свёртком под мышкой. Никиту она не раз видела на службах, странный тип. Живёт один, вдовец. Знакомые рассказывали, что говорит сам с собой. Угрожает всё кому-то, ругается, но руку ни на кого не поднимал, поэтому всерьёз его никто не воспринимал.
Люба тоже не обратила на него внимания. А Никита направился к иконам.
И вдруг послышался звон разбитого стекла и глухие удары: Никита рубил иконы небольшим топориком для разделки мяса. Видно было, что топорик тупой – дерево не сразу поддавалось. На образе Николая Чудотворца было уже несколько полос, словно шрамов.
У Любы потемнело в глазах.
– Господи, помоги! Господи, спаси! – кинулась к нему, схватила за руки.
– Уйди, убью! Мне голос был!.. – Никита оттолкнул её, и Люба упала, больно ударившись локтем об пол.
Поняла, что одной ей с мужиком не справиться. Побежала, задыхаясь, к телефону в лавке и увидела, как в храмовую дверь тихонько протискивается занесённый снегом Гриша.
– Родненький, помоги! Никита… там… – показала рукой, а больше сказать уже ничего не смогла. Обмякла и без сил опустилась на скамейку.
Гриша, ничего не говоря, метнулся на шум. Три оклада уже были разрублены, осколки стекла блестели на полу.
Один удар в солнечное сплетение – помнится ещё армейская подготовка! – и через секунду сумасшедший с заломленными за спину руками лежал лицом вниз, в осколки и обрубки осквернённых им образов.
– Убью всех! – дико и хрипло рычал он, извиваясь под Гришкой.
Быстро приехал патруль вневедомственной охраны, у Никиты на запястьях защёлкнули наручники.
Суд длился долго, история получилась очень громкой: пострадали иконы XVII века. Вандала отправили лечиться в закрытую психиатрическую больницу. Реставрация икон обошлась дорого, но все образы через два месяца заняли свои места. Шрамы на образе Николая Чудотворца будто зарубцевались.
Теперь в храме дежурит охранник.
По-прежнему к концу каждой вечерней службы сюда приходит Гришка, но выглядит он опрятным и ухоженным, только волосы остались такими же длинными, как у местного святого.
Люба скромно улыбается, глаза её сияют тихим и нежным светом…
Родные маячки
– Грнаачс,изпаряивилветшеилихс,я—вэдтеортеавкнюЛекғнкбоабвусштркеечнала всё лето.
Ленко, он же дядя Лёня, был соседом и близким родственником одновременно.
– Пришёл попроведать, – зачем-то каждый раз говорил он, словно оправдывая своё появление в гостях. Хотя наши избы стояли друг против друга и весь день он мог наблюдать, чем мы занимались.
– Сиди, сиди, Леонид Иванович, – говаривала бабушка. – Не мешаешь.
Он курил через чёрный мундштук только сигареты «Прима», потому что они были самые дешёвые. Денежку на другое курево Ленко жалел.
Как только он уходил, через минуту, словно сменив его на посту, прибегала Анюшка. Маленькая, почти невесомая старушка всегда была в белом платочке. Садилась тоже на лавку у печки, на то самое место, после Ленко, кажется, ещё не остывшее.
– Как живитё? – Анюшка всегда задавала один и тот же вопрос.
В раннем детстве я считал Ленко и Анюшку мужем и женой. А как же? Они примерно одного возраста, жили в одном доме, говорили друг о друге, об общем хозяйстве. Были как одно целое.
Только много позже, когда Анюшка и Ленко уже ушли на тот свет, я узнал, что они, оказывается, родные брат и сестра, Леонид Иванович и Анна Ивановна. А нашему дедушке – двоюродные.
Леонид Иванович успел захватить Великую Отечественную. Он служил юнгой на Северном флоте. С войны привёз осколок в животе и целый мешок матросских воротников.
– Ну хоть бы что-нибудь ещё, гостинец какой, – вздыхала Анюшка для вида.
Но и воротники не пропали в деревенском хозяйстве. Анюшка наткала из них половичков на весь дом, один и нашей бабушке перепал. Они служили не один десяток лет. «Крепкая материя!» – удивлялись женщины.
Сразу после войны Ленко посадил у дома два тополя, за ними он специально съездил в Устюг.
– Обычно ведь что у всех домов растёт? Черёмуха. То-то же. А тополь – городской житель, – объяснял.
Тополя росли как на дрожжах и превратились в настоящих великанов. Спустя десятилетия они стали заметны издалека, как только деревня показывалась путнику из-за леса. Если виднеется что-то зелёное, громадное, то здесь живут Ленко и Анюшка, а значит, рядом и родной дом. Для нас это были своего рода маяки.
После войны жить бы да жить, жениться, выходить замуж, растить детей… Но не получилось у них создать собственных семей, не дал Бог детей.
Многие за глаза Ленко называли Стариғще. Прозвищами в деревне, конечно, никого не удивишь: у каждого почти имелось. Вот с Колей Красным понятно. Лицо красное, как из бани всегда. Но почему Старище? Может быть, потому, что молодым Ленко никогда и не выглядел: после возвращения с войны и до самой старости лицо у него было худое и морщинистое.
Один раз, мальцом, при людях, к «дяде Лёне» я добавил «Старище», чтобы посмотреть на его реакцию. Ругаться Леонид Иванович не стал, а сказал только: «Неэтично это». Любил он что-нибудь этакое ввернуть в свою речь. Неделю не приходил к нам в гости – обижался. А потом снова – с порога:
– Давно собирался, вот – пришёл попроведать…
Но я до сих пор краснею, когда вспоминаю этот случай с прозвищем…
Как все деревенские, Леонид Иванович нрава был весёлого, бухтинщик ещё тот – всё шутки да прибаутки. «Тётка, у тебя чёрная серёдка», – это из его самых приличных присказок.
В 1960-е в деревне была общая баня, в которой по «мужским» дням мылись мужчины, по «женским» – женщины и дети. Так Ленко Старище обязательно придёт, когда парились женщины. «Лешак тебя принёс!» – ругались бабы и прогоняли Ленка.
Анюшка всю свою нерастраченную любовь и заботу дарила нам, соседским детям.
– Ромашка – белая рубашка, – говорила она моему брату Роме и, как фокусник, доставала из-под чистого передничка пистешник (пирожок с «пистиками», молодыми ростками полевого хвоща) или шанежку с картошечкой, ещё горячую.
– Только Ленко не говорите. Ругать будет, – просила Анюшка и жаловалась: – Хоть бы пряники магазинские когда разрешил купить, не едала…
Все в деревне и так знали, как Старище был скуп. Говорят, все деньги он откладывал «на книжку». Но сколько их там он накопил, никто не знал.
В деревне мало у кого был телевизор – можно по пальцам одной руки пересчитать. Но Леонид Иванович купил его одним из первых. Из телепередач он, скорее всего, и набрался интеллигентных слов.
В доме Ленко и Анюшки был идеальный порядок – наверное, у хозяина это повелось ещё с флота. Даже мухи у них, кажется, не летали, а телевизор после просмотра обязательно накрывался белой кружевной накидкой.
Анюшка, божий человечек, умела заговаривать грыжу, лечила все болезни живота.
– На сегодняшний денёк смолеватенький пенёк, – гладила сухой ручкой мне, малышу, животик, и боль уходила.
Но вылечить себя она не смогла: умерла внезапно от грыжи. Надорвалась с телятами на ферме.
Ленко после её ухода сильно сдал.
– Я долго без моей Анюшки не проживу, – как-то раз грустно сказал он нашей бабушке.
Так и случилось. Пошёл в больницу «проверяться» – и там через месяц умер. Недолго он смог прожить без сестры. Любил её, оказывается, крепко…
Всё «наследство» досталось племяннику, которого в деревне и видели пару раз всего. Молодой мужчина пришёл с завещанием в сберкассу снимать деньги с книжки Леонида Ивановича, а оказалось – там шиш да ни шиша. Хватало только на похороны да на поминки.
– Не может быть! – рассвирепел племянник.
Не оказалось у Ленка никакого богатства. Да откуда же было ему взяться, когда в колхозе работали за трудодни, а потом в совхозе – за копейки?
Племянник зачем-то срубил оба тополя – может, на дрова, чтобы больше денег поиметь с дядькиного хозяйства.
Не стало Ленко и Анюшки – не стало и тополей. Не видно издалека, где же дом… Лишились мы родных маяков.
На тихом деревенском погосте рядом три могилки – бабушки Сани, Анюшки и Ленка. На памятниках – одна фамилия. Как жили всю жизнь вместе, по-соседски, так и сейчас рядышком.
…В кровь порезал руки, выдирая сорную траву с могилок, – опять перчатки забыл. Поправлю у памятника Леониду Ивановичу выцветшую георгиевскую ленточку. Покрошу для Анюшки городских пряников, которых она так и не наелась досыта.


