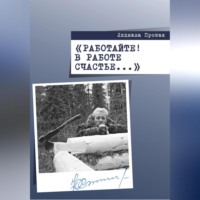Полная версия
Работайте! В работе счастье…
Пятнадцать вечеров прошли однообразно. За огромным столом сидели сокамерники и играли в карты. На кон ставить было нечего, поэтому играли на интерес. Например, проигравший должен был зубами поднять тот самый стол. Поднимал.
Возвращаемся в своё общежитие, а нас там весь этаж встречает как космонавтов.
На танцы мы по-прежнему хаживали, только те самые пацаны-медики, нажаловавшиеся на нас, старались на глаза не попадаться. Наверное, всё же было совестно: кулаками махали не меньше нашего, а отвечать пришлось одним нам.
Мы уже стали подзабывать о своём пятнад– цатисуточном приключении, как в институтской многотиражке “Горняк“ вышла на всю полосу статья ректора под многоговорящим заголовком: “Таким не место в нашем вузе“. Это было про нас с Валерой. Он взял академический отпуск, ушёл в армию, отслужил на Дальнем Востоке и вернулся заканчивать институт.
А я наплевал на статью. Как раз тогда сессия была, сдал прилично.
Меня оставили, но лишили стипендии, чуть ли не на год. Ничего, зарабатывал, в том числе и курсовыми. У нас был бригадный подряд.
Работали втроём – курсовую за ночь. Твёрдой ставки не было, сколько платили, столько и ладно, лишь бы на борщ хватило. Заочники – начальники шахт, главные инженеры – отсчитывали без лишних слов. Что такое для нас заработать за ночь пятьдесят рублей? Да это же больше, чем месячная стипендия!
Со своим честным заработком мы отправились, конечно же, опять в ресторан. Назывался он почемуто “Ялта“. Оркестр играл достаточно вяло и недолго. Даст кто-нибудь трёшку – оживятся, нет – ну тогда и без музыки. Мы переглянулись: кто на гитаре играет, кто на баяне, а я на барабане стучал… Подошли к музыкантам: “Договоримся?“ Те не возражали.
Мы поиграли всласть, выходим в холл, двигаемся к гардеробу, смотрим – у дверей мужчина стоит, в одной руке револьвер держит, а другой рукой к груди какой–то мешочек прижимает.
– Не подходи!
Но нам выйти-то надо?! Бывает, что действуешь на автопилоте. Это как раз тот случай. Отвожу его руку с револьвером и иду к выходу. Навстречу наряд милиции. Мы оказываемся между патрульными и тем самым мужчиной. Тот в меня пальцем тычет:
– Вот этот на меня нападал!
Опять, что называется, замели. Это позже уже выяснилось, что нервный мужчина с револьвером и мешочком у груди – инкассатор, который, пробираясь сквозь сутолоку у гардероба, грубо толкнул нашего Альку Матвеева, а тот, поскольку боксёр, ответил молниеносно, не разглядывая и не раздумывая.
Посадили нас на ночь в компании с мужиком, который, как видно, был не шестёрка. По всему чувствовалось, значительный такой кадр. На окнах решётки. Приятель мой едва не всхлипывает.
– Студенты? – спрашивает лейтенант (он за столом протокол кропал). – А в высшей математике вы как, разбираетесь?
– Как семечки, – отвечаю.
И понеслось… Всю ночь напролёт мы с лейтенантом решали задачки, которые ему в юридическом задали.
В восемь утра в дежурку заходит милицейский чин с большой звездочкой и таким же животом:
– А где этот, по происшествию с инкассатором?
– Здесь задержанный! – тянется в струнку лей–тенант.
– А это кто?
– А это он и есть…
Что тут поднялось! В общем, закрыли меня в каталажку опять. Сначала декан с командой приехал, потом секретарь комитета комсомола с командой, затем уж и ректор – разумеется, тоже с командой, потом из Свердловского горкома комсомола. “Все побывали тут“. Инкассатор стоит на своём. Мы все тогда в одинаковых фуражках ходили и ему на одно лицо казались.
– Юра, – уговаривал декан, – мы тебя в институте оставим, признайся.
– В чём?! – спрашиваю, а он молчит.
Девять раз за день на допросы водили. Следователь вкрадчиво расспрашивает про маму, папу, как живём, какой достаток. Потом склоняется и доверительно спрашивает:
– Ну скажи, ведь позарился? Всё же как–никак семьсот тысяч…
К концу дня отпустили, но сказали строго:
– Первым делом заедешь в комитет комсомола.
Заехал. Мне вкатили третий строгий выговор с занесением в учётную карточку. Где–то ещё провинился. Снимали уже, кажется, в Ухте.
Алька рвался признаться, что это он инкассатору врезал. Но удалось его отговорить. Резон простой: мне то что, я ведь этого не делал. История закончилась, вышли мы из неё с большими моральными потерями.
Ну и ладно, на то оно и есть, студенческое братство.
Впрочем, мы ведь не только попадались в милицию, мы и сами наводили порядок. Я даже ради этого на коньках кататься выучился, потому что на катке безобразничали. Дисциплину наладили – будь здоров!
Отряды содействия милиции – так это называлось. Нас пофамильно пригласили. Мы боролись не только с хулиганами, но и с карманниками. По альбомам их личности изучали, снимков там сотни, не запомнить. Заходим, например, в универмаг. Перед этим лейтенант показывает нам десяток фотографий и инструктирует:
– Поймать их надо только за руку. Иначе не докажешь. С кем я поздороваюсь, за тем и следите…
Жили мы весело и разнообразно, но не в ущерб учёбе. У нас были исключительно толковые преподаватели. Впрочем, по некоторым предметам мы бессовестно косили. Например, в учебной сетке у нас значился бухучет. Учебник толще “Капитала” Карла Маркса.
Преподаватель был не зануда, на экзамен в январскую сессию являлся с зимними удочками и рыбным ящиком.
Скидывал с себя в угол полушубок и садился нас слушать. Бегло просматриваешь учебник и идёшь к нему. Он задает пару вопросов, но осторожно, с пониманием того, что перед ним всё–таки сидит не бухгалтер, а будущий инженер, которому гораздо важнее знания о системе разработок, технике, технологии…
Бухгалтерия не увлекала, а вот геология – это да. Два сезона ходил в ревизионные геологоразведочные экспедиции. Суть их сводилась к следующему: гдето когда-то что-то было открыто, а теперь надлежало проверить.
В войну разбираться с этим было некогда, надо было хватать и разрабатывать там, где побогаче и побольше, оборонка нуждалась остро. А с конца пятидесятых годов уже можно было так не торопиться, разбираться со всем досконально.
В экспедиции была бригада шурфовщиков. Я состоял на должности коллектора – шурф размером метр на метр двадцать, ты землю по глубине раскладываешь, описываешь. К третьему курсу уже разбирался, что такое третичка, четвертичка, сланцы, песок…
Брошенные старательские поселки и тайга вокруг – вот и всё разнообразие. В экспедиции надо ведь не только работу организовать, но и быт наладить, чтобы выжить.
Мы знали, что недалеко от Кушки атомная станция и там что–то вроде Чернобыля было, всех жителей оттуда переселили. Тогда об этом не распространялись – меньше говорили, больше делали.
Неподалёку был заброшенный старательский посёлок, возвращаемся оттуда, смотрим – кержаковское подворье, заросший травой двор и – главное! – банька по-чёрному. Как тут мимо пройдёшь? Напросились.
Парились, пока уши не сварились. Выходим в простынях, а Василий с мужиком тащат из подвала флягу. И мы кружками прямо из неё черпаем холодную брагу. Начальник партии выдаёт по комплекту чистого белья.
Мы натягиваем на себя рубашки, закатываем кальсоны и ночью цепочкой, как привидения, тянемся к себе на базу.
На следующий день бумаги составляешь, образцы в порядок приводишь. А в понедельник, ещё солнце не взошло, выходишь на маршрут. И всё сначала, изо дня в день: встанешь – и кайло в руки… Бригада уходит вперёд шурфы бить, а ты – следом, пишешь, в мешочки собираешь.
Монотонность кропотливой работы – с понедельника по субботу включительно, а с субботы на воскресенье – вылазки на праздник чистого тела…
Обыденная геологическая жизнь – жуть, текучка, круговая повинность. Утром встал, помылся и за дело: кто–то кашеварит; кто-то рюкзак на спину и пошёл пробы брать; вернулся – чайку глотнул, отчёт написал. Завтра – всё сначала, всё то же самое.
Но находятся чудаки, которые, как стемнеет, сидят у костра, что–то мурлычут. Ночи ведь длинные, по тайге не пошляешься, если хочешь с глазами остаться.
Появление бардов подготовила академическая наука – те самые “гады–физики”, что, как пелось в одной из песен Галича, “на пари раскрутили шарик наоборот“, да ещё, как ни парадоксально, геологи…
Да, цитата родом из тех самых шестидесятых. Мы же и о событиях всех говорим поэтапно. Каждая глава – этап жизни.
Я понимаю о себе, что я – человек не только определённого времени, но и определённого поколения. Такое понимание есть и чувство времени тоже. Точнее, чувство есть, а времени нет…
У меня сейчас две трети жизни проходят либо в воздухе, либо в машине. Когда был секретарём – было девять десятых в этом режиме, потом – половина.
На прошлой неделе вылетел в час ночи, в четыре прилетел в Екатеринбург, в два часа – “прогулка по городу”. Идиотизм!
Куда спешу? Мне надо, наоборот, цепляться за жизнь…
Впрочем, время не имеет значения, важна только сама жизнь, точнее романтика, воплощённая в жизнь. Не взирая ни на что.
Я прожил неплохую жизнь, у меня есть свой взгляд на всё и на всех, о ком и о чём угодно. Но лучше меня спросить, какую трубу или какую задвижку ставить, – я скажу с большим удовольствием, потому что я всё ещё инженер…
Глава третья
УНИВЕРСИТЕТ ЗА ДВУМЯ ПЕРЕВАЛАМИ
Куда подальше. Горный мастер при вольных людях. Колымская библиотека. Золотой запас Родины. Чернильница как довод. Почтенная публикаВпереди маячило распределение. Хотел в Норильск – вторая точка в СССР, после Джезказгана, где испытывали самоходную технику.
Это был тот случай, когда степень отрыва науки от производства была колоссальной. Я когда чертёж свой защищал (восемнадцать ватманских листов), в комиссии сидел представитель из института “Гипроруда“, он послушал и плечами пожал:
– Да нет, такого быть не может, вы фантазируете.
Итак, я в первой десятке пошёл на распределение. В Норильск было три места. Оставалось одно. Передо мной приятель, прошу его:
– Ты только Норильск не бери.
– Да я и не хочу.
Выходит, руками разводит: не обессудь, Норильск.
Ну, выразился я, захожу злой. Комиссия за столом спрашивает:
– Юрий Алексеевич, куда вы хотите?
– Давайте, – говорю, – куда подальше.
“Подальше“ была Колыма…
Я впервые тогда летел на Ту–104. Впечатление получил сильное, до этого ведь только на поезде ездил. Долетел до Хабаровска, а потом началось…
Маленький работяга Ли–2 (“дуглас“, только переделанный) – посадка за посадкой – неспешно продвигался к Магадану. Это сейчас циклон, антициклон, а тогда объяснение было одно: “Нет погоды“.
Трава на поле колышется, самолеты на приколе стоят, лётчики скучают, пассажиры слоняются – все погоды ждут…
Потихоньку, помаленьку, с тошнотиками – самолётик ведь махонький! – добрался до столицы Колымского края.
Не только по полезным ископаемым, но и по ресурсу человеческого терпения Северу нет равных. Меня этому качеству учили на прииске „Горный“…
Август отсчитывал последние деньки. В сентябре добыча золота сворачивалась, потому что замерзали реки, да и годовые планы прииски уже к этому времени выполняли. Если и домывали какие-то крохи, то только чтобы натянуть проценты перевыполнения.
Стоянки приборов, как правило, монтировались на год. Зимой добыча останавливалась, производственные отделы работали над проектами.
Старатели же делились на две категории. Первую – из числа наиболее толковых и опытных – забирали в механические мастерские. Если ты токарь, сварщик, слесарь, паши себе на здоровье в тепле, вплоть до нового сезона. Вторую категорию составляли те, кто занимался геологоразведкой, шурфовал будущие полигоны, уточнял контуры, готовился к монтажу приборов. Вот с ними мне и предстояло свести знакомство поближе. Получив в Совнархозе направление на прииск “Горный“, располагавшийся вдоль Колымской трассы, я отправился туда.
В мой первый сезон горного мастера мне дали один прибор. Там домывали вольные люди из числа тех, кого начальство не хотело показывать участковому. В основном, бывшие уголовники, – с глаз долой. Те, кто вышел на свободу и решил осесть на Колыме, обзавёлся семьями.
Смертной казни тогда не было, потому выражение „25, 5 и 5“ как нельзя точнее характеризовало жизненный путь тех, кто, побывав в шкуре зверя, снова пытался стать человеком.
Но прошлое из подсознания не вытравить, а тут появился пацан… Сначала молча наблюдаем друг за другом, потом потихоньку начинаю понимать, что к чему.
Опора горного мастера – бригадир. В нашей бригаде – Вася Гладун, тот ещё персонаж. Всё лицо в морщинах, прочифирил на зоне. Отсидел от звонка до звонка, но семья к нему приехала. Он был один из тех, кто не возвращался на родину не потому, что денег нет, а потому как нагрешил там да так, что родственники жертв не переставали его ждать все эти долгие годы. Таких среди золотарей было большинство.
Мне казалось, что самые интеллигентные из этого сообщества – женщины. Они работали обычно съёмщицами золота: когда смена заканчивалась, промывали, отбивали от остатков породы, складывали в особые банки, которые не открыть, и увозили.
Вот и к нам приехала съёмщица, и мы четвёртый день работаем на съёмку. Приглядывается ко мне, новичку. Я при ней кому–то что–то сказал, тот мне возразил, мол, да пошёл ты. Ей это очень не понравилось. И она набросилась на него с остервенением квочки. Но то, что она ему при этом сказанула, было такого свойства, что я, мужик, почувствовал, как краснею до корней волос. Не успев подумать, брякнул: – Шура, разве можно так выражаться, ты же женщина…
И тут она мне как выписала!.. Ух!..
Нескончаемая зима тянулась медленно. Но именно тогда я и узнал, что такое золото.
Полигоны нам доставались развороченными, идёшь – пусто, а ещё два шага ступил – самородок. Природа не создавала для нас удобств, хочешь найти – ищи. А вокруг сопки.
На нижнем ярусе растут карликовые берёзки и осинки, на среднем – лиственницы ввысь тянутся, ещё выше – каменные верхушки гор, но и они в окружении кедровника.
Едва свободная минутка представится – в тайгу или на речку Таёжную (какое ж ещё название тут может быть?), она промерзает не сверху, а снизу, ведь там – вечная мерзлота.
Утром выходишь, выдыхаешь – слышишь шелест и видишь, как падают изморозью мелкие льдинки. Это твоё дыхание, схваченное морозом, сыплется на снег.
Значит, минус пятьдесят. День актированный, на полигоне делать нечего, но и заработка соответственно нет, заплатят тебе вместо сдельщины повремёнку в три рубля. Только план–то всё равно придется выполнять, не говоря уже о том, что дома сидеть не хочется, потому что дом – общежитие в лагерном посёлке барачного типа.
Самая что ни на есть подходящая для инженера комната… Здесь проживает тридцать человек. Одна стена – вся в вешалках, на них висят вперемешку спецовка и чистая одежда. А дальше – ряды кроватей.
Хорошо хоть прислали из Владивостока ещё одного выпускника, геолога Юру Мельникова.
Итак, первая ночь на новом месте. Только уснули – вваливается кодло ребятишек, пьяных до умопомрачения. Врубают свет, начинают куражиться. Один выхватывает бритву, начинает кромсать одежду. Другой пинает кровать, на которой спал Юра.
Соскочили, сели напротив друг друга.
– Ты как ко всему этому относишься? – спрашиваю. – Соответственно, – отвечает, закатывая рукава.
Отметелили, вытолкнули в предбанник (не то прихожая, не то кухня, посередине печка, уставленная чайниками, на случай если кому почифирить вздумается). Все проснулись, но никто не встал. Мы кровати сдвинули и легли снова спать, спина к спине. Так и жили…
Тут Галина Ивановна сообщила, что едет. Она к тому времени Карагандинский политехнический институт закончила. Пошёл к начальству, так и так, невеста приезжает.
Отвалили нам “квартиру“ в огромном доме, стоявшем буквой “Г“. В одном крыле – контора, всё остальное – жилфонд. Одним словом, барак. Наша комната метров семь.
Колыма для начитанного человека была Клондайком. Здесь продавались такие книги, о которых на Большой земле можно было только мечтать.
Ходили в телогрейках и ватных штанах, но зарплату исправно относили в книжный магазин. Вскоре вся ниша в стене была забита томами серии “всемирной литературы” и не только.
Однажды ночью проснулись от странного шелеста. Мерный, тихий треск доносился с книжных полок. Взял наугад одну книгу, тряхнул – на пол высыпалась если не тысяча, то добрая сотня тараканов. Их можно понять: остальные стены холоднющие, где же ещё устроиться…
Стал я выяснять, что здесь было раньше. Оказывается, в нашем бараке была лагерная больница, а нас с Галиной Ивановной поселили в морг. Вот я и думаю: может быть, достаточно человеку в своей жизни один раз в морге побывать, больше и не нужно?
Просыпаешься – иней по стенкам, углы промёрзли. Утром подходишь к ведру – пробиваешь лёд и потом только умываешься и бреешься.
Никто не бухтел. Никому в голову не приходило, что каждому взрослому сыну надо по отдельной квартире, а ещё лучше – по коттеджу. Как же так, мальчику двадцать лет, а он ещё без машины!..
В стремлении жить лучше не заметили, когда чаши весов, качнувшись, накренились, миновав точку равновесия между материальным и идеальным…
Конечно, и сейчас есть люди, не зацикленные на материальной составляющей, но, к сожалению, в современном обществе они в меньшинстве. Привязанность к собственности приводит к равнодушию жлобства, которое подбирается к человеку незаметно.
Мы просто к быту относились, не пищали. Таисия Дмитриевна, мама Галины Ивановны, приезжала, жила с нами почти год, тоже ничего.
Потом нам дали другую квартиру, в ней и комнатка была чуть просторнее, даже маленькая кухонька имелась. Когда родилась дочь, с фибрового чемодана оторвал крышку – получилась колыбель. Настрелял белок и куропаток, пустил их на пух, чтобы ребёнок в тепле спал.
На второй сезон мне дали уже два прибора километров за пятнадцать друг от друга. В районе Оротукана отмывали полигон, вскрыли прямо под сопкой шурф, зацепились за телогрейку… Понаехали кагэбэшники, всё оцепили. Оказалось, там целое кладбище. Два дня мы не работали, пока захоронения переносили…
Вадим Туманов написал книгу о Колыме, о том, как вывозили в сопки и под музыку расстреливали. Приезжал какой-нибудь хмырь с Магадана и шёл прямиком к Доске почёта. Передовая бригада? Расстрелять! А эти кто? Лентяи? В машину, тоже расстрелять!
Я этого не пережил, не видел. Но когда вышел “Один день Ивана Денисовича“ Солженицына (мы выписывали роман-газету), дал почитать повесть своему соседу Коле Глушко, работавшему весь свой век на Колыме бульдозеристом, тот прочитал и долго хохотал: “Пустяки какие!“…
Тяжёлая история не только у Колымы. Север, он ведь весь в зонах – не архипелаг, а материк ГУЛАГ. И в то же время единственная часть света, которая всегда безраздельно принадлежала России, – тот же Север.
У двух поколений была возможность стать рабами страха. Не стали. Ни отцы, ни дети.
Выполняя политическую волю, механизм репрессий набирал обороты. Бывшие репрессированные, выброшенные на снег, создавали в ГУЛАГе передовые хозяйства и гордились потом, что их сыновья и дочери, рождённые на Севере, вышли в орденоносцы…
Покаяние для интеллигентного человека более чем норма. Не дай бог внукам увидеть Колыму в лагерных бараках, Воркуту – за колючей проволокой!
И Соловецкий камень в Москве на Лубянке, и мемориал памяти жертвам политических репрессий в Сыктывкаре, и обелиск в Ухте – это не только напоминание о ГУЛАГе, который в сталинские времена стал кладбищем умов, – это ещё и предостережение.
Не надо топтать друг друга – живём в одной стране.
Добро не помнит зла. И всё же через какую обиду и нестерпимую боль перешагнули репрессированные – те, кто выжил – ради любви к Жизни, к Отечеству…
Закон был один: план давай, хоть удавись. Шестьдесят третий год выдался неурожайным, страна закупала хлеб в Канаде и Аргентине. Чтобы пополнить золотой запас Родины – святое дело! – мы мыли не до сентября, как обычно, а до нового года. В замерзшее русло реки заходит бульдозер, ломает лёд и по галькам, валунам толкает грунт, черпая то, что в силах зацепить. От мороза траки становились такими хрупкими, словно сделаны из стекла. Один за другим бульдозеры становились на прикол. Техника вышла из строя, а люди продолжали работать. То, что может человек, железу не под силу.
Очень много сделали ручной промывкой лотками. Происходило это так. Люди долбили песок ломиками, жгли костры, правили на них ломы и снова вгрызались в лёд. Что не поддавалось, то взрывали.
Мы на “летучке“ с бригадой взрывников колесили по полигонам в радиусе восьмидесяти километров.
Собирали заявки, составляли график. Приезжали, заряжали, взрывали. В специальных ваннах топили снег на печках, получалась вода градусов под двадцать, а иногда даже и больше раскочегаривали. Туда бросали песок, когда он начинал таять, его там же промывали лотками.
Вот так те самые вольные люди, да и мы вместе с ними, жрали на Колыме золотой песок, чтобы страна ела хлеб.
Сутками на морозе намывали стратегический запас Родины. Золото поднялось в цене. Если раньше старателям платили копейки, то теперь по полтора рубля. Всем итээровцам было задание – сдавать по десять граммов в сутки, бери, где хочешь. Сдаёшь, взвешиваешь, тебе в специальной книжечке делают запись. Сто девяносто два грамма намыл, пока нас освободили от этого задания.
В таком темпе промчались три года. Молодость брала своё, нам хотелось не только работать, но ещё и жить. Несмотря на три своих выговора, я стал секретарём первички. В посёлке был махонький клуб, в котором главной и единственной мебелью служили колченогие стулья. Впереди маячил Новый год. Начать решили с малого – организовали танцы. Народу набилось битком. Тогда замахнулись на большее – стали готовить концерт.
Основной творческой силой были приезжие, ряды которых как раз в это время пополнили семеро ребят, демобилизовавшихся из армии. Все они уже успели жениться, но детей ещё не имели.
Вчерашние армейцы работали сварщиками, бульдозеристами, а их жёны (если не хотели в жилкомхозе состоять на должности дворников, чьи обязанности сводились к войне с замёрзшими помойками) вынуждены были сидеть дома.
Вот мы их всех и обошли с предложением поучаствовать в концерте. Они обрадовались, нашлась даже женщина, вызвавшаяся быть худруком. Мужья, как только у них находилось свободное время, тоже приходили. Таким образом, во–первых, у нас образовался хор, а во–вторых, мы начали ставить сценки. Вскоре стали подтягиваться в клуб и жёны коренных жителей.
Вдруг в день получки заваливаются пьяные мужики и с русским сленгом принимаются загонять, что называется, баб к плите. Пришлось ходить по домам, отбивать женщин у этих идиотов. Кое–кто из них тоже потом пришёл. Наконец состоялся концерт.
После многолетнего беспробудного существования вдруг зазвучала музыка, нормальные человеческие слова.
Как назвать то чувство, которое испытали участники и зрители? Восторг? Не знаю, может быть. Но скорее это было потрясение. Все ведь двадцать четыре часа на виду друг у друга. А тут всё так необычно… Мы старались вовсю. Каждый выступал в нескольких ролях. Я и сам пел, играл на гитаре, балалайке, участвовал в миниатюрах. Галина Ивановна – на сносях – плясала, пела.
Помимо артистической деятельности нас увлёк ещё и футбол. И это несмотря на то, что работали двенадцать часов через двенадцать. График такой, что не разгуляешься. Но ничего, приезжаешь с ночной смены и едёшь играть километров за сто пятьдесят. Пока в автобусе трясёшься, успеваешь поспать, глаза протёр – и на поле. На нём, конечно, если что и произрастало, то уж никак не трава, а камни.
Наши соперники из автотранспортной колонны, в гараже работают, нет–нет да и потренируются. Так что мы чаще проигрывали, но зато сопротивлялись отчаянно. Играли и с артелью Туманова, в которой старатели футболистами были не хуже, чем золотарями.
Матч закончится – пора ехать обратно, по серой колымской трассе, на которой пыль не то что столбом стоит, а лентой стелется.
Автобус останавливается у реки, и ты бросаешься на холодные камни в ледяную воду…
Если часик–другой успеешь дома поспать, то хорошо, а там и опять пора на прибор.
Потом у нас появилась новая техника – гидромониторы. И это было азартнее концертов и матчей. Я начал заниматься монтажом.
Народу не хватало катастрофически. Весной пароходы привозили оргнабор. Приезжали и добровольцы, но в основном доставляли неблагонадежных (“сто первый километр“, как их тогда называли). Каждый прииск делал на них заявку.
Причаливал пароход, и мы шли отбирать мужиков. Их там насчитывалось тысячи, весь берег был усеян людьми, сидящими группками. Между ними неторопливо прохаживались наниматели. Иду мимо, вижу: ребята хохочут громко, заразительно.