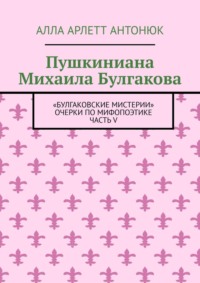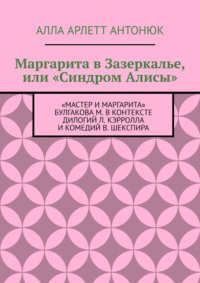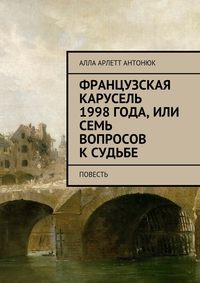Полная версия
Маргарита спускается в Преисподнюю. «Мастер и Маргарита» в контексте мирового мифа Очерки по мифопоэтике. Часть IV

Маргарита спускается в Преисподнюю
«Мастер и Маргарита» в контексте мирового мифа Очерки по мифопоэтике. Часть IV
Алла Арлетт Антонюк
© Алла Арлетт Антонюк, 2019
ISBN 978-5-4496-8482-0 (т. 4)
ISBN 978-5-4496-4729-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть 2. Морфология «мифа о путешествии»
…Мессир… велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если, конечно, вы пожелаете.
М. А. Булгаков«Мастер и Маргарита» (гл. 30)Глава 1. «Прамифы» и «пратексты» в романе «Мастер и Маргарита»
Многослойная булгаковская реминисценция
(Пушкин А. С., Толстой Л. Н., Достоевский Ф. М.)
Текст и подтекст. Булгаковская героиня носит имя Маргариты, прямиком пришедшее в роман Булгакова из драмы И. Гёте «Фауст». Однако ничего общего с судьбой гётевской Маргариты (Гретхен) булгаковская героиня явно не имеет. В ее образе у Булгакова, скорее, соединились черты романных и сказочных русских героинь: на литературном уровне – это черты Анны Карениной (в том числе, и ее разрушительные черты), для которой невозможно было соединиться в законном браке с Вронским, а на мифопоэтическом уровне – черты пушкинской сказочной Людмилы, разлученной со своим женихом таинственной силой. Эти пушкинские и толстовские мотивы разлуки с возлюбленным причудливо соединились в романной судьбе булгаковской Маргариты.
Роман «Мастер и Маргарита», на наш взгляд, вообще содержит в себе два основных «пратекста», которые, в свою очередь, также содержат в себе несколько «прамифов», отраженных уже в названии романа М. А. Булгакова, в которых как бы уже «рассказано» всё содержание его романа. Как «пратексты» здесь можно рассматривать следующие источники:
1) Глава романа Л. Н Толстого «Анна Каренина» о художнике Михайлове и его картине «Христос и Понтий Пилат» (5:XII), которая есть в своей протооснове литературная обработка мифов:
a) мифа о Галатее (рассказ о художнике и судьбе его творения),
b) мифа о Христе (в Евангелии от Матфея «Увещание Пилатом»), запечатлевшего диалектику жизни и смерти, в котором смерть – есть прелюдия к высшему – катарсису в мистерии воскресения.
2) Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» как литературная обработка мифов:
a) мифа об утраченной невесте (женихе) в его самых живых и спонтанных формах;
b) мифа о дьяволе (похитителе), запечатлевшего масонскую эсхатологию опосредованно, через трагедию И. Гёте «Фауст».
Как видим, миф о Христе и миф о дьяволе своеобразно перекрещиваются в художественном поле и композиции булгаковского романа, как и миф о Галатее перекрещивается с мифом об утраченной богине (невесте / женихе.)
Миф о Галатее. Роман Булгакова вобрал в себя огромную часть культурно-исторической, мифологической и философской памяти человечества. Многие исследователи небезосновательно считают цитатность основным свойством его поэтики. Делая ироничные замечания по поводу своего приема литературных реминисценций и отсылая нас к их источникам (чаще в завуалированной форме, но нередко высказываясь и напрямую), Булгаков говорит иногда совершенно откровенными намеками: «Все смешалось в доме Облонских, как справедливо выразился знаменитый писатель Лев Толстой. Именно так и сказал бы он в данном случае» (гл. 23) – эта ироничная и одновременно откровенная ремарка Булгакова в какой-то мере проливает свет и на прототипы его героев, которые явно обнаруживают у него свои литературные корни, в том числе, и из произведений Толстого. Мы уже говорили о том, что сама идея написания булгаковским Мастером произведения о Мессии и Прокураторе (как совершение некого сакрального акта) – абсолютно булгаковская идея, но она содержится еще у Толстого в «Анне Карениной», где через нарисованные переживания осознания художником Михайловым акта своего творчества автор «Анны Карениной» решает одновременно глобальную проблему творчества – условности создаваемого им произведения. Через акт творения своей картины (своей Галатеи) Толстой показывает как в художнике протекает процесс создания условного мира искусства, который может осознаваться в то же время и как самая настоящая реальность: «Михайлов сел против картины Пилата и Христа <…>. Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришел в то состояние уверенности в совершенстве <…>, при котором одном он мог работать. Нога Христа в ракурсе все-таки была не то. Он взял палитру и принялся работать. Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане, <..> которая, он знал, была верх совершенства. Окончив ногу, он хотел взяться за эту фигуру, но почувствовал себя слишком взволнованным для этого. Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слишком видел все. Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа. А нынче он слишком был взволнован. Он хотел закрыть картину, но остановился и, держа рукой простыню, блаженно улыбаясь, смотрел на фигуру Иоанна. Наконец, как бы с грустью отрываясь, опустил простыню и, усталый, но счастливый, пошел к себе» (5:XII)
В этом тщательном выписывании художником фигуры Христа находит свое развитие у Толстого «миф о Галатее», как в романе Булгакова он найдет свое развитие в описаниях творческих мук Мастера, создающего роман о Пилате и Иешуа (прототипическом Христе), также показывая соотношение условности создаваемого им романа и реальности происходящего, а в целом, возможности существования условно-реального мира. И Мастер у Булгакова тщательно выписывает Иешуа «в ракурсе», используя для этого свою собственную «палитру». Стилистические «упражнения» мастера Толстого и мастера Булгакова сродни знаменитой «игре в бисер» – литературной игре (в одноименном романе Г. Гессе), в основе которой лежит понимание художником истории как метаистории, а самого метода «игры в бисер» как создание некой «метародословной» героя (часто основывающейся на многосложной и многослойной литературной реминисценции).
Роман Мастера как «стилистическое упражнение» и энтелехия
Маргарита: – Да, я вернулась, как несчастный Левий Матвей, слишком поздно!
Булгаков М.. А.. «Мастер и Маргарита» (гл. 19)Игра «в бисер» Мастера и Маргариты («Как причудливо тасуется колода!»). Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» упоминает о создании произведений методом энтелехии – примеривании на себя маски другой личности из другой эпохи и вживании в этот образ при создании жизнеописания героя. Подобную игру в «стилистические упражнения» мы встречаем в романе Г. Гессе «Игра в бисер», в котором писатель описывает жизнь некой вымышленной «педагогической провинции» Касталии, в лоне которой живет орден (подобный монашескому или масонскому) с его ритуалами посвящения. Одним из своеобразных испытаний для иницианта в этом ордене является создание литературного жизнеописания – некой вымышленной автобиографии, перенесенной в любое историческое прошлое (некое «стилистическое упражнение»). Г. Гессе, характеризуя этот метод творчества, пишет в своем романе: «Задачей ученика было перенестись в обстановку и культуру, в духовный климат какой-нибудь прошедшей эпохи и придумать себе подходящую жизнь в ней; в зависимости от времени и моды предпочтение отдавалось то императорскому Риму, то Франции XVII или Италии XV века, то перикловским Афинам или моцартовской Австрии, а у филологов стало обычаем писать романы своей жизни языком и стилем той страны и того времени, где происходило их действие; получались порой весьма виртуозные жизнеописания в канцелярском стиле папского Рима XII – XIII веков, на монашеской латыни, на итальянском языке «Ста новелл…» (Г. Гессе. «Игра в бисер»).
В романе Булгакова его герои Мастер и Маргарита, отвергнутые официальным «орденом» МАССОЛИТа и оторванные от действительности литературного московского общества, сами себе создают свой «орден» (из двух человек, как впрочем, Иешуа и Левий Матвей в «ершалаимских» главах романа Мастера), придумывая свои ритуалы посвящения. В этой выдуманной Мастером и Маргаритой игре, подобной «игре в бисер» как у Г. Гессе (или игре в раскладывание карт Таро – «причудливо тасуемой колоде карт», по словам Булгакова), основным испытанием для Мастера было, безусловно, написание им Жизнеописания Иешуа с его путешествием в Ершалаим (читай: Иерусалим). Пока Мастер, переносясь своим воображением в Иудею времен императорского Рима, сочинял жизнеописание своего героя Иешуа, Маргарита собственноручно шила и вышивала ему «орденскую» бархатную шапочку, а когда роман был закончен, она устроила возлюбленному настоящий ритуал посвящения в Мастера Ордена, водрузив ему на голову вышитую шапочку с символической буквой «М». Возлюбленный Маргариты великолепно справился с задачей «ученика» – перенестись в обстановку, культуру и духовный климат эпохи времен завоеваний Рима, заслужив у Маргариты тем самым звание Мастера.
Булгаков достаточно подробно описывает отшельничество Мастера и Маргариты и при этом их жизнь сразу в нескольких условных мирах, оставляя, однако, все подробности, касающиеся самой «игры в бисер» за рамками романа, поэтому остается как бы за кадром, например, тот факт, кем именно из героев видел себя Мастер в описываемой им исторической обстановке, мастерски создаваемой им (ведь в настоящей «игре в бисер» в создаваемом жизнеописании необходимо было еще, ко всему прочему, «придумать себе подходящую жизнь»). Об этом, конечно, не трудно догадаться, читая внимательно роман Булгакова. Каким-то роковым образом предвидя свои последующие «хождения по мукам» с напечатанием романа, Мастер, скорее всего, олицетворял себя с бродячим философом Иешуа, как в последствии Маргарита (а, может быть, и изначально) олицетворяла себя с Левием Матвеем («я… как несчастный Левий Матвей…!»; гл. 19), который слишком поздно пришел на казнь, чтобы спасти своего учителя (и об этих чаяниях Маргариты у Булгакова есть неоднократные упоминания в романе).
Присущее Булгакову понимание истории как метаистории породило и его метод многослойной реминисценции, и создание им «метародословной» героя. Этот метод, присущий Булгакову в романе «Мастер и Маргарита», подробно описывает также Г. Гессе в своем романе «Игра в бисер», показывая жизнь древнего кастальского ордена: «В этой свободной и шутливой форме продолжал жить здесь остаток древней азиатской веры в возрождение и переселение душ; для всех учителей и учеников была привычна мысль, что теперешней их жизни предшествовали прежние жизни – в другом теле, в другие времена, при других условиях. Это было, конечно, не верой в строгом смысле и подавно не учением; это было упражнением, игрой фантазии, попыткой представить себе собственное „я“ в измененных ситуациях и окружении. При этом, так же, как на многих семинарах по критике стиля, а часто и при игре в бисер, упражнялись в осторожном проникновении в культуры, эпохи и страны прошлого, учились смотреть на себя как на маску, как на временное обличье некоей энтелехии. Обычай сочинять такие жизнеописания имел свою прелесть и свои преимущества, иначе он вряд ли бы сохранялся так долго» (Г. Гессе. «Игра в бисер»).
Булгаков как инициант некого ордена сначала создает в «Мастере и Маргарите» подобное жизнеописание, используя свои методы как при «игре в бисер», а, уверовав затем более или менее в правдивость своего же собственного и выдуманного им жизнеописания и в идею перевоплощения, идет дальше, перенося дальнейшее развитие событий в современную ему эпоху, получившую даже в истории литературы название булгаковской Москвы.
Миф и мировой «миф о путешествии». «Плащ» и «сандалии» как атрибуты «путешественника». Белая мантия Понтия Пилата («в белом плаще с кровавым подбоем») и голубой хитон и стоптанные сандалии Иешуа – это все те атрибуты, которые выдают в булгаковских героях их архетипическое родство с героями глобального «мифа о путешествии». Каждый герой проходит свой путь, который часто определен инициатической встречей на его пути – на дороге.
Мистическая встреча на дороге – глубоко пушкинская тема, которую он разрабатывал не только в «Пророке» («шестикрылый серафим /На перепутье мне явился»), но и в «Легенде» о рыцаре («Он имел одно виденье, /Непостижное уму»), для которого неожиданная встреча имела судьбоносное значение в жизни:
Путешествуя в Женеву,
На дороге у креста
Видел он Марию деву,
Матерь господа Христа.
А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный» (1829)Экспозиция и завязка этой пушкинской «Легенды» о рыцаре («Жил на свете рыцарь бедный»; 1829) стала также завязкой сразу для нескольких произведений русской классики, в том числе, имеет свои отголоски и в «Мастере и Маргарите».
Так у Достоевского в романе «Идиот» князь Мышкин в своей предыстории имел судьбоносную встречу в Женеве – с девицей Мари. И в этой связи имя Мари, в судьбе которой он принял участие, является достаточно значащим в поэтике романа Достоевского. Несомненно, в этой предвстрече с Мари в Женеве содержится и своеобразный пролог к главной фабульной коллизии романа «Идиот» – последующее путешествие князя Мышкина в Россию.
Знаковую для героя встречу на дороге мы обнаружим и в сюжете «Мастера и Маргариты» – с теми же символами «знаковости», что и у Пушкина и Достоевского. Мистическое событие путешествия пушкинского рыцаря в Женеву, которое происходит «на дороге у креста» (на перекрестке дорог, где рыцарь должен сделать свой выбор дальнейшего пути), рисуется и у Булгакова в романе как знаковая встреча для его героя Левия Матвея – «на дороге в Виффагии». В описании локуса этой встречи есть у Булгакова также символ «угла» как перекрестка дорог: «…я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним» (гл. 2), – говорит Иешуа Понтию Пилату на суде о своей встрече с Левием Матвеем, для которого она стала знаковой в его судьбе.
В этой многослойной реминисценции Булгакова, какой является у него сцена инициатической встречи Левия Матвея, прослеживается судьба всех трех литературных героев (и бедного рыцаря Пушкина, и бедного князя Мышкина, и бедного Левия Матвея), которые все три получают высший урок судьбы (урок смирения) и сами затем совершают свой рыцарский подвиг смирения. «С той поры» и Бедный Рыцарь Пушкина, и бывший сборщик податей Левий Матвей у Булгакова – получают перерождение души. Пушкинский рыцарь, ожесточенный борьбой с иноземцами, после знаковой встречи становится верен «лику пресвятой», «матери господа Христа» (матери Сына человеческого, принявшего страдания на кресте):
С той поры, сгорев душою,
…………………………….
Проводил он целы ночи
Перед ликом пресвятой,
Устремив к ней скорбны очи,
Тихо слезы лья рекой.
А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный» (1829)Левий Матвей у Булгакова, встретивший на дороге своего учителя Иешуа (и Сына человеческого, которому предстояло вынести крестные муки), тоже получает от него свой урок смирения. Послушав Иешуа, он «стал смягчаться, …наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет … <с Иешуа> путешествовать» (гл. 2). Эта судьбоносная встреча сделала Левия Матвея последователем учителя-философа и приближенным Иешуа, вследствие чего ему пришлось разделить трагическую участь своего учителя и скорбеть за него: «в невыносимой муке поднимал <он> глаза в небо»; (ср. у Пушкина: «Устремив к ней скорбны очи,/Тихо слезы лья рекой»), испытывая и переживая таким образом трагедию Сына человеческого: «Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, избежал бы истязаний» (гл. 16).
Глава 2. «Ноблесс оближ»
«Литературная родословная» Мастера и Маргариты
Друзья Людмилы и Руслана!…
Позвольте познакомить вас…
А.С Пушкин «Евгений Онегин»Мотив «утраченного жениха (невесты)»
в контексте поэтики Пушкина А. С.
«Всевышней волею Зевеса». Судьба путешественника из мифов часто обусловлена «всевышней волею». Начиная свой роман «Евгений Онегин» и знакомя читателя с новым героем, Пушкин в родословной своего героя сразу же делает отсылку к киевскому богатырю Руслану, делая его литературным «предшественником» Онегина: «Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа Без предисловий, сей же час, Позвольте познакомить вас». В то же время, в результате другой отсылки своими корнями родословная Онегина (и Руслана одновременно) уходит у Пушкина еще глубже – прямо к герою греческих мифов, судьба которого действительно была обусловлена «всевышней волею Зевеса». Платон считал, что Зевс, испытывая зависть богов по отношению к человеку и разрубив мечом его душу на две половинки (чтобы люди не могли ощущать себя богами), способствовал, таким образом, вечным поискам души и ее нескончаемой тяге к путешествиям. Поэтому ремарка Пушкина о Зевсе («всевышней волею Зевеса») придает путешествию Онегина в деревню (к своим корням) некую обусловленность платоновской идеей поисков души. Но когда Пушкин говорит об Онегине как о «наследнике всех своих родных», речь не идёт у него только о родственниках и его дяде, а скорее о его литературной «родне» – и это явная отсылка нас, читателей, к далёкому предку Онегина – архетипическому путнику-герою универсального «мифа о путешествии», который (и не только образно говоря) отправлялся в путь «всевышней волею Зевеса».
Таким образом, в пушкинских строчках мы находим не только упоминание о литературной родословной Онегина («Наследник всех своих родных»), но также и о мифосоставляющей этой родословной – извечного «путника», «летящего в пыли на почтовых Всевышней волею Зевеса». Начиная легендарный путь Онегина, Пушкин не случайно декларирует именно такую «родословную», берущую начало от самого глубокого «предка» – героя мифов, а промежуточным звеном в этой «родословной» является у него его богатырь Руслан.
Ближайшая мифо-литературная родня Мастера и Маргариты у Булгакова это – тоже Руслан и Людмила. Булгаков намеренно актуализирует в истории исчезновения своего Мастера сюжет о пропавшем женихе и выносит его вслед за Пушкиным («Руслан и Людмила») в название своего романа («Мастер и Маргарита»). Так в теме «метародословной» звучит у Булгакова идея вечного повторения линейного исторического времени, которое делает историю метаисторией,
Тема «метародословной» связана у Булгакова, в первую очередь, с Маргаритой, хотя так или иначе, каждый герой имеет свою богатую литературную родословную и «метародословную», о чем сам Булгаков часто говорит завуалированно в том или ином виде. Не случайно Коровьев называет Маргариту прапрапраправнучкой и намекает о ее прабабушках. Воланд у Булгакова также иронизирует по поводу своей собственной прабабушки (которая была – мы знаем, кем на самом деле – библейским Поганым Змием: «поганая старушка, моя бабушка!»). Такое упоминание у Булгакова относит читателя непосредственно к библейскому мифу – о «бабушке-змее», соблазнившей Еву плодом с древа познания и сыгравшей тем самым роковую роль в судьбе человечества: «Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка!» (гл. 24), – говорит сатана Воланд о змее-дьяволе – своем прародителе. Кроме библейской реминисценции здесь вскрывается у Булгакова также и другое её ответвление – из «Фауста» Гёте, а именно признание Мефистофеля о том, что тот все еще готов мстить человечеству за свою «тысячелетнюю прабабушку»:
Заставлю доктора <Фауста> во прахе пресмыкаться,
Он будет прах глотать, как некогда змея,
Тысячелетняя прабабушка моя!
И.-В. Гёте «Фауст»(пер. с нем. Д. Мережковского)Все «потусторонние» герои романа Булгакова относятся к Маргарите как к особе королевской крови. «Вы сами – королевской крови», – замечает ей Коровьев. «Ноблесс оближ» (от фр. «благородное происхождение обязывает») – намекает ей Кот Бегемот («заметил кот и налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан»). В сцене представления Маргариты Воланду он, «внимательно поглядев на Маргариту, заметил как бы про себя: «Да, прав Коровьев! Как причудливо тасуется колода! Кровь!». Только сама Маргарита и не подозревает о своих королевских корнях: «Почему королевской крови? – испуганно шепнула Маргарита, прижимаясь к Коровьеву. – Ах, королева, – игриво трещал Коровьев, – вопросы крови – самые сложные вопросы в мире! И если бы расспросить некоторых прабабушек и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы, уважаемая Маргарита Николаевна. Я ничуть не погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами. Намекну: одна из французских королев, жившая в шестнадцатом веке, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную прапрапраправнучку я, по прошествии многих лет, буду вести под руку в Москве по бальным залам» (гл. 23).
Булгаков здесь совершенно не скрывает своей иронии по отношению к своему же собственному методу многослойной реминисценции, корнями глубоко уходящей в историю и метаисторию. Но еще Пушкин глубоко исследовал и вскрывал метародословную своих героев, которая своими корнями уходила у него прямо на Парнас.
«Парнаса тайные цветы». Слова Коровьева о том, что «если бы расспросить некоторых прабабушек и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы,» – прямиком относят нас к другой ветви булгаковской реминисценции – к «Гавриилиаде» Пушкина, где поэт называет Еву – «нашей прародительницей» и где в предисловии к поэме у него возникает мотив тайны крови («Парнаса тайные цветы»):
Картины, думы и рассказы
Для вас я вновь перемешал,
Смешное с важным сочетал
И бешеной любви проказы
В архивах ада отыскал…
А. С. Пушкин «Гавриилиада» (1818)Здесь для нас очень интересно замечание Пушкина о том, как он, создавая «Гавриилиаду», «перемешал картины», словно карты (возникает даже образ карт Таро, на которых мы также можем видеть все ключевые персонажи мономифа). Пушкин воссоздает в «Гавриилиаде» миф о «бешеных любви проказах» наших «прапрабабушек» – нашей «прародительницы Евы», а также Марии Девы, которая, говоря словами Коровьева, «пользовалась репутацией смиренницы» (и это какой-то личный миф Пушкина о любовных грезах Девы Марии, хотя он и ссылается на источник, который якобы «в архивах ада отыскал»). В сюжете у Пушкина возникает «треугольник»: Архангел Гавриил – Дева Мария и Змий-Дьявол (который как бы соответствует в то же время и ветхозаветному «треугольнику»: Адам – Ева и Змей-искуситель). Позднее снова этот же «треугольник» возникает у Пушкина и в «Руслане и Людмиле»:
Теперь влекут мое вниманье
Княжна, Руслан и Черномор.
«Руслан и Людмила» (1821)В «Гавриилиаде», однако, есть ещё и четвертое действующее лицо, о котором в художественном тексте обычно может умалчиваться, но которое присутствует в мире всегда, везде и во всем, как и при всех перипетиях героя в мифе, – и это сам Бог.
Четыре масти игральных карт, которые Пушкин «вновь перемешал» в «Гавриилиаде», соответствуют у него и четырем персонажам его личного мифа, который он развивает в поэме «Гавриилиада»: Бог и Дьявол, Архангел Гавриил и Дева Мария, каждый из которых сам одновременно является в то же время мифом в себе, а в произведении Пушкина – «мифом в мифе». Четыре мифа объединены («перемешаны») у Пушкина в один сюжет «Гавриилиады».
В картах Таро, с которыми хорошо был знаком не только Пушкин, но и Булгаков, можно найти, как мы сказали, все ключевые фигуры мономифа. В романе Булгакова сюжетные линии, ведущие к ключевым героям, тоже «перетасованы» по принципу «колоды карт» (говоря словами Воланда и Коровьева). Булгаков, большой знаток пушкинского творчества, работавший долгое время над пьесой о последних днях жизни и творчества Пушкина, хорошо уловил этот пушкинский прием, в основе которого лежит принцип «колоды карт», и вложил объяснение этого принципа в слова Воланда, который c присущей ему тягой к пародии выскажется, как и Коровьев, по поводу «причудливо тасуемой колоды» – почти строчкой из «Анны Карениной»: «Все смешалось в доме Облонских, как справедливо выразился знаменитый писатель Лев Толстой. Именно так и сказал бы он в данном случае» (гл. 23).